Модные авторы
Предыстория
В российской традиции, в отличие от Европы, власть и литература всегда сплетались в тесных отношениях притяжения-отталкивания. Бегло вспомним конфликты Державина с Екатериной и Павлом, отношения Карамзина с Александром, Ленина, поддержавшего курс Воронского, Ельцина, ездившего за предвыборным благословением в деревню к Астафьеву, Путина в гостях у Солженицына…
Хотел он того или нет, писатель оказывался больше чем писателем и воспринимался как пропагандист, а то и как агитатор. То есть беллетристика часто заменяла свободную прессу, в книгах искали «правду» и «ответы», а литературный процесс не был отделен от политического тем рядом промежуточных устройств, которыми гордится западная цивилизация. Потому равнодушие литератора к вопросам несправедливости и положению народа приравнивалось к бесчестию и воспринималось с недоумением.
В начале 90-х в моду вошла набоковская идея «изящной словесности вне политики». Профессора в Литинституте просили студентов «не обращать внимания на содержание стихов Маяковского, а оценивать только их форму», и почти все критики признавали, что за социальную проблематику сегодня цепляется только тот, кому таланта не хватает прославиться иным способом.К концу 90-х отношения между литературой и политикой полностью выпали за пределы художественного текста, то есть в свободное от творчества время многие писатели с удовольствием зарабатывали написанием речей и производством емких образов для пропаганды как власти, так и оппозиции, но на самом творчестве такой опыт явно не сказывался – и даже наоборот, опасливо замалчивался.
Не успели все с этим свыкнуться, как гражданское, социальное и даже политическое стало стремительно возвращаться в современную русскую словесность. В недавних некрологах Солженицына кое-кто еще сетовал на отсутствие у нынешних писателей столь же четко выраженной позиции, но выглядели эти сетования как явное отставание от изменившейся ситуации.
Сегодня старая русская традиция восстановлена. Отныне это будет учтено и новыми авторами, мечтающими сделать писательское имя, и теми, кто обладает властью или стремится к ней.
Сорокин – Пелевин – Славникова – Быков – Гаррос и Евдокимов
Состоявшимся в конце прошлого века звездам все сложнее балансировать на границе между острой публицистикой и художественной прозой.
 В последнем романе Владимира Сорокина «Сахарный Кремль» только ленивый не усмотрел политической сатиры. Самые остроумные страницы – описание нелегкой и абсурдной жизни царских скоморохов недалекого будущего, садомазохистские игры нового боярства и национальные роботы, говорящие народными поговорками. Ключом к главному посланию романа для меня стал уличный стереоплакат с подмигивающим русским рабочим и лозунгом: «Строим великую русскую стену!». Сорокина явно пугает перспектива изоляции страны и победы в ней крайне правых настроений, и поэтому он написал классическую антиутопию, напоминающую местами чуть ли не Салтыкова-Щедрина. «Сахарный Кремль», впрочем, является продолжением «Дня опричника», где молодой студент ближайшего русского будущего расхотел изучать историю, чтобы ее вершить, и записался в царскую опричнину. В стране, где население добровольно сожгло свои загранпаспорта и отгородилось от мира Западной Стеной, правит абсолютная монархия, народная магия и гротескный садизм. «По первой же читательской реакции я понял, что такой мир возможен», – заявил Сорокин. Себя автор называет «медиумом», а мотивом написания романа признает свои «нехорошие предчувствия». Главная российская проблема по Сорокину – «опричность», то есть необратимая отдельность людей власти от остального населения.
В последнем романе Владимира Сорокина «Сахарный Кремль» только ленивый не усмотрел политической сатиры. Самые остроумные страницы – описание нелегкой и абсурдной жизни царских скоморохов недалекого будущего, садомазохистские игры нового боярства и национальные роботы, говорящие народными поговорками. Ключом к главному посланию романа для меня стал уличный стереоплакат с подмигивающим русским рабочим и лозунгом: «Строим великую русскую стену!». Сорокина явно пугает перспектива изоляции страны и победы в ней крайне правых настроений, и поэтому он написал классическую антиутопию, напоминающую местами чуть ли не Салтыкова-Щедрина. «Сахарный Кремль», впрочем, является продолжением «Дня опричника», где молодой студент ближайшего русского будущего расхотел изучать историю, чтобы ее вершить, и записался в царскую опричнину. В стране, где население добровольно сожгло свои загранпаспорта и отгородилось от мира Западной Стеной, правит абсолютная монархия, народная магия и гротескный садизм. «По первой же читательской реакции я понял, что такой мир возможен», – заявил Сорокин. Себя автор называет «медиумом», а мотивом написания романа признает свои «нехорошие предчувствия». Главная российская проблема по Сорокину – «опричность», то есть необратимая отдельность людей власти от остального населения.
На прямые вопросы о прототипах автор шутливо ответил, что подсмотрел стиль опричнины у сотрудников ГИБДД на Минском шоссе. Конечно, для Сорокина манера письма всегда была важнее сюжета. Делая комплименты сталинскому искусству, он предлагал изъять содержание и оставить только форму.Но показательно, что автор «Льда» забыл вдруг мистическую фантастику, которой занимался последние годы, и выдал сатирического «Опричника», а потом и «Сахарный Кремль», прямо сказав в сопутствующем интервью: «Литератор в России просто не может не наступать власти на ногу». Отдельные критики воспринимают последние два романа как запоздалый шарж на «Идущих вместе», публично топивших сорокинское «Голубое сало» в унитазе и пытавшихся сорвать премьеру оперы «Дети Розенталя» в Большом театре. Еще одно доказательство того, что у актуального писателя личное сведение счетов совпадает с выражением проблем эпохи.
 Другой лидер продаж из-под пера популярного вольнодумца Виктора Пелевина – сборник «5П» – критика тоже журит (реже хвалит) за излишне лобовые социальные высказывания, неприличные для модно/легкого писателя. Обсуждается в основном сюжет с «поющей кариатидой»: проститутка, которая должна регулярно изображать эту самую кариатиду на даче крупного олигарха, постепенно, но незаметно для окружающих сходит с ума от такой формы наемного труда, осознает себя самкой богомола и однажды после секса с олигархом, как и положено самке богомола, натурально отгрызает ему голову. Постепенно превращаясь в опасное насекомое, она все больше узнает о рекламе, демократии, рынке и контркультуре. Сюжетик, кстати, вполне в духе подзабытого фрейдомарксизма в версии Маркузе, утверждавшего, что в основе механики экономической эксплуатации (олигарх) нужно искать «прибавочную репрессию». Эта репрессия основана на контроле над чужими телами (кариатиды) и вызывает в воображении репрессируемых деструктивный протест – вплоть до полного изменения идентичности на фантомную (богомол). Там, где не происходит анализа «прибавочной репрессии» и освобождения от нее, новая деструктивная идентичность репрессированного превращает его в монстра (откусывание головы) или, в более мягком случае, в поклонника монстров, одномерную жертву медиа. Собственно, к этому сводились в 60-х претензии Маркузе к Фромму. Вместо того чтобы вынуть миллионы живых кариатид из-под тысяч крыш и отпустить их по домам, пока не все они еще попревращались в богомолов-убийц, Фромм (по версии Маркузе) предлагал им громче петь, изящнее стоять, гордиться своей связью с греческой мудростью – и тогда, наверное, им совсем не захочется кусаться.
Другой лидер продаж из-под пера популярного вольнодумца Виктора Пелевина – сборник «5П» – критика тоже журит (реже хвалит) за излишне лобовые социальные высказывания, неприличные для модно/легкого писателя. Обсуждается в основном сюжет с «поющей кариатидой»: проститутка, которая должна регулярно изображать эту самую кариатиду на даче крупного олигарха, постепенно, но незаметно для окружающих сходит с ума от такой формы наемного труда, осознает себя самкой богомола и однажды после секса с олигархом, как и положено самке богомола, натурально отгрызает ему голову. Постепенно превращаясь в опасное насекомое, она все больше узнает о рекламе, демократии, рынке и контркультуре. Сюжетик, кстати, вполне в духе подзабытого фрейдомарксизма в версии Маркузе, утверждавшего, что в основе механики экономической эксплуатации (олигарх) нужно искать «прибавочную репрессию». Эта репрессия основана на контроле над чужими телами (кариатиды) и вызывает в воображении репрессируемых деструктивный протест – вплоть до полного изменения идентичности на фантомную (богомол). Там, где не происходит анализа «прибавочной репрессии» и освобождения от нее, новая деструктивная идентичность репрессированного превращает его в монстра (откусывание головы) или, в более мягком случае, в поклонника монстров, одномерную жертву медиа. Собственно, к этому сводились в 60-х претензии Маркузе к Фромму. Вместо того чтобы вынуть миллионы живых кариатид из-под тысяч крыш и отпустить их по домам, пока не все они еще попревращались в богомолов-убийц, Фромм (по версии Маркузе) предлагал им громче петь, изящнее стоять, гордиться своей связью с греческой мудростью – и тогда, наверное, им совсем не захочется кусаться.
Конечно, Пелевин и прежде не был чужд социальной актуальности. Недавно «Афиша» описала всю нашу постсоветскую историю, начиная с ГКЧП, цитатами из его романов. Но до некоторых пор это носило характер постмодернистской игры – милой, необязательной и трактуемой как угодно по настроению читателя. А так как главный читатель Пелевина – молодой перспективный офисный работник или студент, готовящийся таковым работником стать, то и понимание было соответствующим – всех пелевинских «че гевар», являвшихся из альтернативной реальности, воспринимали как «телегу» – полный неожиданностей, развлекательный, но никак не связанный с жизнью текст.
Поворот произошел с выходом романа «Empire V». От сорокинского «Опричника» этот роман отличался тем, что оппонировал уже не российским традициям управления/подчинения, но разоблачал скрытую мировую аристократию и мог считаться вполне антиглобалистским чтением, если, конечно, простить автору обычную дозу мистики. Вампиры Пелевина – транснациональная элита, доящая человечество, разделенное для удобства по национальным квартирам. Успех в таком мире есть потеря «низких» человеческих качеств ради обретения «высоких» сверхчеловеческих, которых два – доступ к мировой власти и возможность пить таинственный «баблос». «Баблос» выкачивается из занятых в обычной экономике толп избирателей-потребителей. Роман, написанный действительно весьма примитивно, ругали чаще всего за утрату Пелевиным былого «буддистского спокойствия» и за обличительный пафос.
Никогда прежде ни в чем политическом не замеченная Ольга Славникова получила Букеровскую премию за «2017» – по-оруэлловски названный роман о повторении революции в России. Историческая инсценировка и столетний юбилей оборачиваются реальной гражданской войной и пробуждением древних духов хаоса. В мире «2017» изобретена целая куча гаджетов, способных материально обеспечить все человечество. Если бы пустить их в дело, бедных бы просто не было. Но это никому не нужно – по закону оппозиций с бедностью исчезнет и богатство как привилегия, следовательно, растает власть, падут элиты и вся действующая пирамида отношений с ее священными гербами и ритуальными поклонами. Костюмированное шоу, где случайных людей наряжают и назначают «красными» и «белыми», неожиданно для всех выводит общество из зоны управляемой предсказуемости.
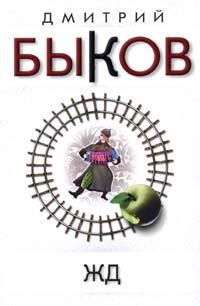 Лауреат «Большой книги» Дмитрий Быков взялся в своем романе «ЖД» (Живые Души) «объяснить нацию». Объясняется нация так: нашим государством поочередно правят два ордена. Первые (меченосцы) катастрофически понимают власть, вторые (хазары) не менее ужасно трактуют свободу. И хоть методы у них разные, цель одна – истребление населения через втягивание его в свою вечную войну. Окончательно неизбежной гражданская война в России становится, когда мир переходит на волшебный газ «флогистон» и нефть никому больше не нужна. Общий трагизм творящегося выражен через невозможность третьей силы, то есть через отсутствие в обществе адекватного представительства интересов большинства.
Лауреат «Большой книги» Дмитрий Быков взялся в своем романе «ЖД» (Живые Души) «объяснить нацию». Объясняется нация так: нашим государством поочередно правят два ордена. Первые (меченосцы) катастрофически понимают власть, вторые (хазары) не менее ужасно трактуют свободу. И хоть методы у них разные, цель одна – истребление населения через втягивание его в свою вечную войну. Окончательно неизбежной гражданская война в России становится, когда мир переходит на волшебный газ «флогистон» и нефть никому больше не нужна. Общий трагизм творящегося выражен через невозможность третьей силы, то есть через отсутствие в обществе адекватного представительства интересов большинства.
Вымышленное будущее, по Славниковой и по Быкову, имеет одну важнейшую черту: некому решить ключевую проблему общества, даже сама формула этой проблемы остается эзотерической тайной, и это бесконечное «откладывание решения» однажды приводит к взрыву, в котором общество разлетается на куски, несоединимые обратно.
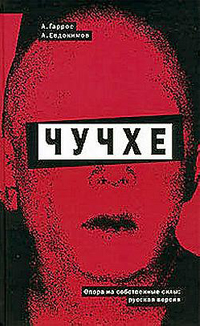 Самые решительные бичеватели социальных пороков из модных российских писателей поколения 90-х – это, наверное, Александр Гаррос и Алексей Евдокимов. Сначала они получили «Национальный бестселлер» за «Головоломку», в которой скромный работник банка накапливает ненависть, чтобы стать ангелом смерти для всех своих обидчиков. В отдельно взятом рижском банке, помнится, даже обиделись, узнав свой офис в этой книге. Потом соавторы продолжили в том же духе, написав «Серую Слизь» и «Фактор Фуры» и стали мастерами отечественного социального триллера. В их последней книжке «Чучхе» открывается механика «отрицательной селекции» – системы, которая раз за разом отбирает и поднимает наверх самых худших. Обобщенного олигарха Горбовского выдавливают за границу, громят его компанию «Росойл», а тринадцать оставшихся без покровителя талантливых апостолов преследует и убивает вездесущая сила отрицательной селекции, близко связанная, впрочем, со спецслужбами. Этакий предельно политизированный вариант сюжета «За миллиард лет до конца света» Стругацких.
Самые решительные бичеватели социальных пороков из модных российских писателей поколения 90-х – это, наверное, Александр Гаррос и Алексей Евдокимов. Сначала они получили «Национальный бестселлер» за «Головоломку», в которой скромный работник банка накапливает ненависть, чтобы стать ангелом смерти для всех своих обидчиков. В отдельно взятом рижском банке, помнится, даже обиделись, узнав свой офис в этой книге. Потом соавторы продолжили в том же духе, написав «Серую Слизь» и «Фактор Фуры» и стали мастерами отечественного социального триллера. В их последней книжке «Чучхе» открывается механика «отрицательной селекции» – системы, которая раз за разом отбирает и поднимает наверх самых худших. Обобщенного олигарха Горбовского выдавливают за границу, громят его компанию «Росойл», а тринадцать оставшихся без покровителя талантливых апостолов преследует и убивает вездесущая сила отрицательной селекции, близко связанная, впрочем, со спецслужбами. Этакий предельно политизированный вариант сюжета «За миллиард лет до конца света» Стругацких.
Повесть «Люфт», написанная Евдокимовым без Гарроса, еще жестче: неонацисты хозяйничают в отдельно взятой российской провинции, а взрывы домов и расстрелы школ стали частью мрачного политического спектакля, заказанного элитами.
Гаррос и Евдокимов выросли из братьев Стругацких и не скрывают этого. Вот только в идеалах своих прежних кумиров они явно разочарованы, этому миру поставили незачет и не считают, что анафемы сегодня нужно маскировать фантастикой. Пишут на документальном газетном материале.
Логично было бы рассмотреть параллельную политизацию «палпа» то есть предельно массового, лоточного и вокзального чтения, например, появление в нулевых годах советско-имперской фантастики и «нового правого» фэнтези. Отдельно поговорить про Б. Акунина, как коммерческий проект, рекламирующий неоконсервативный курс и «русское викторианство». Отсутствие рефлексии массовым читателем идеологической заряженности этих книг является условием потребления их идеологии. Но тема эта настолько широка, что мне придется посвятить ей отдельную статью этого цикла, а в следующий раз продолжить разговор о совсем новых наших писателях последних пяти лет, уровень притязаний которых отчетливо выше коммерческого «палпа».
Алексей Цветков
