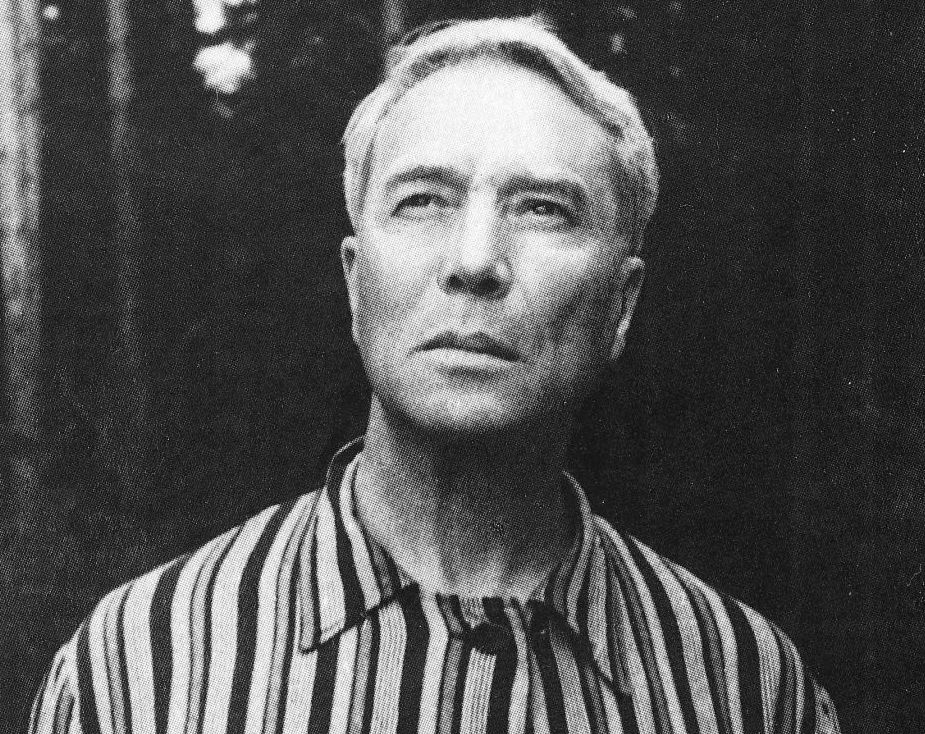Как ни странно, пятидесятилетие со дня его смерти, пришедшееся на предпоследний день нынешнего мая, прошло почти незамеченным. То есть – собрались на могиле в Переделкине, вспомнили, поговорили, почитали стихи… Но в общекультурном масштабе всё было на удивление тихо.
А ведь полвека – это целая эпоха. Такое расстояние, отходя на которое, оказываешься уже в совершенно другом культурном состоянии. У культуры за полвека почти целиком меняется состав, её плоть и кровь, совокупность базовых интонаций и очевидностей. Это почти целая человеческая жизнь.
То есть, с одной стороны, то, что об этом так мало говорили – понятно. Только что, в феврале, миновало стодвадцатилетие со дня рождения Пастернака, по поводу которого, действительно, было сказано очень много всего – очередной раз закреплявшего Бориса Леонидовича в статусе классика. В таких случаях думается даже, что избыточно много: всегда почему-то странно, когда поэт делается публичной фигурой, – ведь поэзия – глубоко частное дело. Поэтому то, что на пятидесятилетие смерти как следует отмолчались – даже хорошо. Настоящее вообще очень хорошо постигается в молчании.
С другой стороны, мне кажется, что разговор в связи с годовщиной его смерти мог бы стать немного другим, чем юбилейные речи, которым трудно быть свободными от торжественности и славословия юбиляру. Это могло бы быть измерение расстояния, отделяющего нас теперь от Пастернака (если отделяющего!), и о характере его присутствия теперь в нашей жизни.
«А какого цвета ваш Пастернак? – спросил меня знакомый, услышав, что мне предстоит писать текст о Пастернаке. – Или – цветов, в разные периоды?»
Скорее всего, мой собеседник имел в виду – может быть, даже прежде всего – политическую окраску, ибо упомянул в том разговоре и советскую власть, и «пятую колонну», к которой та причисляла «неблагонадёжных» писателей типа Бориса Пастернака. А периоды – уж, наверное, исторические.
Так вот, он – разноцветный. Всецветный. Независимо ни от каких периодов: ни (даже) от биографических, ни – тем более – от политических.
Свои политические толкования, политические контексты он теперь пережил и, хочется думать, навсегда. Уже хотя бы потому, что изначально был и крупнее политического, и вообще, по существу, совсем по другую сторону жизни, чем оно.
Потому, думается мне, политическое его и погубило.
Он сгорел, столкнувшись лицом к лицу с русской историей.
«Я думаю, знаете, – огрызнулась я в ответ на «пятую колонну», – что всё было сильно сложнее».
Что до «цветов», это – один из самых колористически богатых, фактурно щедрых – до избыточности – русских поэтов.
Мне всегда казалось, что Пастернак – волшебник. Но волшебник особого рода: соприродный самому естеству – воздуху, свету, дождю, распускающимся листьям. Если Осип Эмильевич – второй волшебник русской поэзии ХХ века – суровый демиург, представитель Культуры в Природе, толкователь-переводчик Природы на культурный язык, то Борис Леонидович – проживатель одной жизни с нею, свидетель и живое воплощение родства Природы и Культуры, отсутствия границ, которые отделяли бы их друг от друга – и от него самого.
«Мы с жизнью на один покрой», – признавался он, с юности звавший жизнь сестрой и чувствовавший её – во всей её крупности – как собственное непосредственное продолжение.
«Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут окунал»
Любая мелочь захлёстывала его и немедленно вставала во весь свой надысторический рост, распахивая границы текущего мига – прямо в бесконечность:
«… в мае, когда поездов расписанье
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней святого писанья…»
Грандиозней, потому что – весть о Большой Жизни здесь и сейчас.
Он на равных вёл диалог со стихиями, требуя их участия в своей жизни:
«Она со мной. Наигрывай,
Лей, смейся, сумрак рви!
Топи, теки эпиграфом
К такой, как ты, любви!
Снуй шелкопрядом тутовым
И бейся об окно.
Окутывай, опутывай,
Еще не всклянь темно!
– Ночь в полдень, ливень – гребень ей!
На щебне, взмок – возьми!
И – целыми деревьями
В глаза, в виски, в жасмин!…»
Такое проживание жизни на равных с нею требует необычайной внутренней крупности и смелости, которые есть не у многих. У него – были.
«Сколько нужно отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река!»
Есть люди, и среди них – поэты, словно нарочно рождённые для участия в истории – если и не для делания её в формах актуальной политики, то хотя бы для интенсивного в ней присутствия. Чем был бы, например, Маяковский без и помимо великих социальных сдвигов ХХ века? Даже Мандельштам, растоптанный страшной русской историей как поэт в огромной, может быть, в решающей мере определялся тем, что слышал её гул: тектонический, подземный гул исторических сил.
Борис Пастернак был человеком – и поэтом – надысторическим. Его, очень земного человека, неспроста – по преимуществу с раздражением – называли «небожителем». Бывали словечки и покрепче. «Не трогайте этого юродивого», – сказал, по преданию, Лучший друг всех литераторов, когда решалась судьба Пастернака. И действительно, сказал Сталин такое или не сказал, но, во всяком случае, в самое гибельное время Пастернак уцелел. Позже, в эпоху интенсивного отталкивания нашего отечества от советского исторического опыта, это давало основания и для того, чтобы смотреть на Пастернака с подозрением: ну да, конечно, он с этой властью прекрасно ладил. Хотел «в отличьи от хлыща, в его существованьи кратком», существования долгого, исторического – то есть «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком». Чувствовал «силу прежнюю» (пушкинскую! опираясь на пушкинский авторитет, один из немногих, пожалуй, беспрекословных и универсальных в русской культуре!) «в надежде славы и добра / Глядеть на вещи без боязни».
«Но лишь сейчас сказать пора, – писал он, вгоняя в дрожь своих позднейших читателей, – Величьем дня сравненье разня: / Начало славных дней Петра / Мрачили мятежи и казни…»
Он же оправдывал этот режим! Более того, впрямую с ним сотрудничал! Не он ли писал в 1934-м – и не в официальном заявлении, а в письме родному отцу! – «Я стал частицей своего времени и государства, и его интересы стали моими»? Не он ли в том же году стал членом правления Союза советских писателей, сидел на их Первом съезде, выступал там с речью? На этом самом Первом съезде о нём говорили как о «ведущем советском современном поэте» («лучший, талантливейший поэт эпохи» к тому времени успел уже застрелиться). Сам Сталин тремя годами раньше, в 1931-м, советовался с ним по телефону, раздумывая, погубить ли ему Мандельштама сейчас или несколько позже. «Но ведь он мастер, мастер?!», – настаивал Вождь. А Пастернак, вместо того чтобы отстоять собрата-поэта, что-то мямлил в ответ: «Дело не в этом…», – и предлагал убийце встретиться и поговорить о жизни и смерти. Его даже не посадили. Тогда как всех настоящих поэтов – или, по крайней мере, их близких – непременно сажали.
А вы бы что ответили Иосифу Виссарионовичу, будучи разбужены телефонным звонком посреди ночи? Особенно если даже посреди ночи наделены острым чувством слова, и слово «мастер» в применении к поэту для вас мучительно своей неадекватностью и отсылает к виртуозу-парикмахеру?
Ведь речь-то действительно шла о жизни и смерти. А Вождю об этих предметах было раз и навсегда всё ясно, поэтому он и бросил трубку, оставив Бориса Леонидовича наедине с его невысказанными словами, его чувством вины, его пониманием жизни, которое волновало его собеседника в распоследнюю очередь, если волновало вообще. Если тот собеседник собирался с кем-то расправиться, в советчиках он уж точно не нуждался.
А Пастернак после этого разговора в буквальном смысле лишился сна на полгода.
«Он начал сам звонить в Кремль, – рассказывала потом с его слов Ольга Ивинская, – и умолять телефонистку соединить его со Сталиным… Ему отвечали, что соединить никак не могут, “товарищ Сталин занят”. Он же беспомощно и взволнованно доказывал, что Сталин ему только что звонил и они не договорили, а это очень важно!
Взволнованный и возбужденный до крайности, он забегал по своей коммунальной квартире и всем встречным соседям говорил: “Я должен ему (то есть Сталину) написать, что вашим именем делаются несправедливости; вы не дали мне высказать до конца – ведь все неприятности, сейчас происходящие, связываются с вашим именем, вы должны в этом разобраться…”»1
Он действительно написал и отправил такое письмо, архаически уверенный в метафизическом праве поэта, нет, больше того, в долге его – говорить с властью на равных. Только ему не ответили.
Посетив с писательской делегацией «великие сталинские стройки», где использовался труд заключённых, он едва не сошёл с ума.
Кстати, своего сына Евгения он успешно отговорил становиться гуманитарием: считал, что в его время любая гуманитарная деятельность неминуемо связан с политикой, подлостью и враньем. Он этого не выносил.
Его, так и хочется сказать, угораздило родиться в историческую эпоху: в пору повышенного, катастрофического исторического движения.
При этом, чего он точно не делал, так это не устранялся от Истории. (Недаром он, одним падением в детстве с лошади выбитый, как говорил, сразу из двух будущих войн – у него после этого неправильно срослась нога, навсегда оставшись короче другой, и он был невоеннообязанным по инвалидности – во время Великой Отечественной добровольно пошёл в военные корреспонденты, о чём специально и настойчиво просил само правительство – на более низких уровнях ему разрешить не могли.) Он искренне старался понять историю, прочувствовать её, участвовать в ней – и поэтически, и человечески – платить за участие в ней самим собой. Вообще мне кажется, что слово «участие» – одно из ключевых слов к его жизни и личности.
Самое Историю он переживал, кажется, как Природу – и более того, в единстве с надприродными, сакральными, мирообразующими силами. Для него и тут не было границ.
«Сошлись и собеседуют звезды и деревья, философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания, – пересказывал возбуждённый зрелищем ночного митинга альтер эго автора, Юрий Живаго, свои впечатления Ларе Антиповой. – Что-то евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Помните, у Павла? “Говорите языками и пророчествуйте. Молитесь о даре истолкования”».
Наверняка у верующих такое вольное обращение с евангельскими материями тоже способно вызывать раздражение. Но в таком всепронизывающем безграничьи и чувстве важности всего происходящего – весь Пастернак.
Есть сильный соблазн думать, что в своём восприятии истории он, человек сложнейшего внутреннего устройства, в каком-то смысле был наивен.
Но то была особенная, я бы сказала, высокая наивность.
Его поэзия обладает удивительным свойством присутствия «здесь и сейчас». Он смотрит на погружённую в историю жизнь не из абстрактной вечности, но из вечного сейчас, из живого мгновения, которое может случиться в любую эпоху – и которое одной только силой своего воздействия уже выращивает человека в размер всей Вселенной.
«Это ведь значит – обнять небосвод,
Руки сплести вкруг Геракла громадного,
Это ведь значит – века напролет
Ночи на щелканье славок проматывать!»
Это он о любви так.
Потому-то он и мог спрашивать – о чём, правда, сам он, ничуть не склонный себя преувеличивать, уж, скорее, наоборот, – говорил иронически, – «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» И потому-то он, умерший почти целую человеческую жизнь назад, в совсем, казалось бы, другую историческую и культурную эпоху – чувствуется современником, близким, собратом по существованию. Он обладает редкостным даром убирать дистанции.
«О, бедный Homo sapiens,
Существованье – гнет.
Былые годы за пояс
Один такой заткнет.
Все жили в сушь и впроголодь,
В борьбе ожесточась,
И никого не трогало,
Что чудо жизни – с час.
С тех рук впивавши ландыши,
На те глаза дышав,
Из ночи в ночь валандавшись,
Гормя горит душа…»
Это ведь – написанное в 1917-м! – происходит сию минуту. И душа горит, и чудо жизни – с час, и вечность этого едва замечается людьми, погружёнными в историю.
Только у него книга о лете 1917 года, между двух революций «Сестра моя жизнь», посвящённая только и исключительно любовным переживаниям, отношениям поэта с одной-единственной женщиной – Еленой Виноград, действительно смогла стать книгой об особенном – бродящем, возбуждённом, полном надежд – историческом состоянии России в эти месяцы. Он ничуть не хвастался и не преувеличивал, когда говорил, что именно в этой пронзительно-лирической книге «выразил все, что можно узнать о революции самого небывалого и неуловимого».
Ему «ничто не мелко», совершенно как «всесильному богу деталей», который «с времён Экклезиаста» по своему избытку запросто мог не жалеть вечности на «отделку кленового листа». Потому-то он видел одновременно, в единстве, одним большим глазом (в который весь превратился), и мельчайшее – капли на листе, и «коврик за дверьми», иссурьмлённый рябиной, и даже «мух Мучкапской чайной» – и гигантские движения масс бытия. При взгляде на «среднюю полосу» существования – область социальных событий и политических целей – его взгляд расплывался. Для рассматривания таких вещей он просто не был создан.
Тем более, что рассматриватели исторического и в его время, и во все другие неизменно оказывались в большинстве. А Пастернак был – один.
Он задаёт масштаб крупности существования. Учит помнить, нет, чувствовать всем своим существом, что человек никогда не сводится к своим историческим обстоятельствам. О биографических – и говорить нечего. Что истинный рост человека – от земли до неба.
«Так вы пишете чисто комплиментарную статью? – настаивал мой собеседник, видимо, несколько раздражённый моим упорным нежеланием обсуждать Пастернака в его политических аспектах. – Или разъясняете, в чём его сложность?»
Да кто ж я такая, чтобы «разъяснять» сложность Бориса Леонидовича. Для такого предприятия надо, по меньшей мере, быть с ней вровень, а то и превзойти – на что вряд ли многие из нас могут надеяться. Всё, что можно и должно сделать с его сложностью – это переживать её, проживать вместе с ним, по его следам. («Другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь…» – вот именно это, насколько возможно – по живому следу.)
И в комплиментах наших он точно не нуждается. Зато во внимательной благодарности ему, кажется, очень нуждаемся мы сами.
А я вообще-то пишу ему признание в любви. И в благодарности, которая от неё неотделима.
Полвека назад для него прекратилось бремя времени. Он освободился. Он ушёл из истории – в Жизнь.
Теперь мы можем прочитать его поэзию вне политической конъюнктуры, помимо скоротекущих забот века, как работу, нет, лучше – как отважную игруав с онтологическими силами, с живыми токами бытия.
1 Ольга Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. М., 1992. С. 81.