Рабкор.ру публикует пришедший в редакцию отклик на статью Василия Колташова «Правила инфляции: от привычки к пониманию»
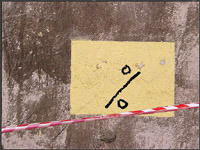 С большим интересом, хоть и с опозданием, прочел статью Василия Колташова «Правила инфляции: от привычки к пониманию». Я разделяю озабоченность автора проблемой правильного понимания природы инфляции и влияния на нее разных факторов, со многим не могу не согласиться. Например, с тем, что, сложив низкие цены товаров, не находящих сбыта, и возросшие цены на потребительские товары, легко можно констатировать снижение инфляции или даже дефляцию. А население при этом фиксирует рост цен. И с тем, что в обывательское сознание вколочено представление, будто рост доходов населения неминуемо порождает повышение цен. И что ясность в неолиберальном взгляде на инфляцию проистекает из его крайней упрощенности. Ну, и некоторые другие моменты.
С большим интересом, хоть и с опозданием, прочел статью Василия Колташова «Правила инфляции: от привычки к пониманию». Я разделяю озабоченность автора проблемой правильного понимания природы инфляции и влияния на нее разных факторов, со многим не могу не согласиться. Например, с тем, что, сложив низкие цены товаров, не находящих сбыта, и возросшие цены на потребительские товары, легко можно констатировать снижение инфляции или даже дефляцию. А население при этом фиксирует рост цен. И с тем, что в обывательское сознание вколочено представление, будто рост доходов населения неминуемо порождает повышение цен. И что ясность в неолиберальном взгляде на инфляцию проистекает из его крайней упрощенности. Ну, и некоторые другие моменты.
Но все же некоторые посылы в статье и докладе хотелось бы обсудить, так как они, как мне кажется, нуждаются в некотором уточнении.
Например, фразу «миллионы специалистов на планете приучены считать, что инфляция порождается высоким платежеспособным спросом населения». Наверное, это так. Но, думается, точнее бы звучало по-другому: не «высоким платежеспособным спросом», а значительным спроса по отношению к ценовому предложению. Иначе говоря, речь идет об спроса над предложением (суммой цен товаров). Обычно это и называют инфляцией спроса. Наверняка автор именно это имел в виду, но есть вероятность неправильного толкования из-за недостаточной определенности и точности формулировки.
К тому же в реальной экономической жизни, как всем нам понятно, ничего в чистом виде не бывает. Кроме инфляции спроса, реально действует (и это признают различные исследователи инфляции) и так называемая инфляция издержек или, как ее реже называют, инфляция предложения. Полагаю, довольно часто мы имеем дело с комбинацией обоих видов инфляции.
Удивительно, что в статье В. Колташова об инфляции издержек не сказано ни слова. Если бы автор, скажем, навел на подобный термин критику, это было бы объяснимо. Но он предпочел обойти молчанием многократно описанное в учебниках и справочниках понятие, видимо, не сочтя это существенным.
Правда, в докладе ИГСО «Природа мировой инфляции» (ссылку на который я впервые увидел в статье) инфляция издержек, хотя и без указания на термин, фактически объявлена тавтологией, так как, по мнению автора, объясняет рост уровня цен ростом цен.
Цитирую: «В качестве источника инфляции большинство аналитиков называли рост цен на продукты питания и энергоносители. Так причиной инфляции оказывалась сама инфляция, ее ценовое выражение». Однако рост цен тогда мог бы быть ценовым выражением инфляции, если бы носил очевидный для всех предельно общий характер независимо от конкретных товаров или товарных групп.
Помимо прочего, разве невозможна ситуация, когда рост цен на одни группы товаров вызывает рост цен остальных товаров, а с ним – и снижение покупательной способности или обесценивание денежных знаков, каковое и сам автор статьи признает за сущность инфляции? Одни товары растут в цене, повышая себестоимость товаров, в производстве которых они участвуют, а другие – повышают общий ценовой фон в силу того, что удорожают стоимость жизни.
И что удивительного и невозможного в прямом примитивном повышении цен на ту или иную продукцию со стороны частных и получастных монополий? Разве мы не сталкиваемся с этим регулярно? Ведь в основном монополии вздувают цены на предметы и услуги первой необходимости, имеющие устойчивый массовый спрос. Причем спрос , то есть в широких пределах не зависящий или очень мало зависящий от динамики цен.
А неэластичен он, очевидно, в силу или этих товаров и услуг на данном этапе развития технологии и экономики той или иной страны. Отказаться потреблять их невозможно без угрозы для жизни и здоровья. Отдельные исключения не в счет, потому что инфляция – тотально массовое для данного ареала явление.
В статье В. Колташова, как и в докладе ИГСО, прямо указывается, что в кризис цены повышались прежде всего на продовольствие и топливо, то есть как раз на товары неэластичного спроса. Я лично считаю, что в этом (хотя и не только в этом) и заключается опасность инфляции издержек.
Нельзя превращать такие товары в предмет коммерции. Коммерсанты не должны диктовать цены в области производства и сбыта таких товаров. Здесь мы, по большому счету, имеем не рыночную, а чисто монопольную ситуацию. Это монопольное положение (диктат) одной стороны (продавцов) по отношению к другой (покупателям). И монополия в этом случае обусловлена не малым числом продавцов одной и той же продукции, а в силу отсутствия выбора у покупателей по причине безальтернативности (незаменимости) некоторых видов товаров и услуг. В этой ситуации все продавцы продукции выступают по отношению к покупателям как один совокупный монополист. Такую ситуацию еще можно было бы назвать вырожденной. А именно: вырождается такой критерий, как чья-то доля продаж на рынке.
Вопрос во многом также упирается, как представляется, в формальное определение понятия инфляции. Если мы согласны с тем, что инфляция – это именно обесценивание дензнаков или валюты (кстати, не являющихся деньгами в собственно марксистском смысле слова), то рост цен на отдельные, пусть очень важные группы товаров отнюдь не эквивалентен понятию инфляции. А вот обесценивание дензнаков или, что то же самое, соответствующей валюты носит в рамках ее функционирования на территории той или иной страны или группы стран всеохватный характер. Обесценивается буквально каждая валютная единица, где бы и в чьих бы руках она ни находилась, следовательно – и вся масса денежных знаков.
Поэтому, как мне кажется, о ценовом выражении инфляции можно говорить лишь с большой натяжкой, поскольку оно не обладает атрибутом всеобщности. Во всяком случае, индекс потребительских цен для этого точно не годится. Конечно, можно говорить о некоем общем среднем уровне цен в стране или группе стран в рамках какого-либо их валютного союза. Но по какой именно формуле считать этот средний уровень – вопрос не только не решенный, но даже, насколько можно судить, не поставленный (во всяком случае, громко и внятно). А ведь в зависимости от способа определения среднего уровня цен может зависеть, в том числе, и его динамика.
Но главное, как мне кажется – в том, что определять этот уровень путем статистического усреднения произвольно выбранных цен товаров просто-напросто не нужно. Потому что гораздо правильнее и теоретически, и практически определять не рост цен, а решать обратную задачу на вычисление изменений покупательной способности денежных знаков (валюты), которую, судя по всему, сам автор признает за адекватный ориентир для расчетов по инфляции.
А именно: сколько одного и того же товара или одного и того же набора (корзины) товаров можно купить на одну и ту же номинальную денежную сумму (положим, размером 10 тысяч или 100 тысяч рублей), скажем, по происшествию года. Именно это – осознанно или неосознанно – волнует каждого покупателя, неважно, индивида или организацию (предприятие). Это, на мой взгляд, намного вернее, чем измерять инфляцию, исходя из хаотичной ценовой динамики.
Замечу: мало того, что как раз ценовое выражение инфляции не вполне адекватно, оно еще и способствует «обману зрения» у широкой общественности, которую легко запутать игрой цифр и графиков инфляции, чем успешно пользуются правительства различных стран, в том числе и России. А так есть некая стандартная официально признанная потребительская корзина (ПК). И достаточно будет знать, насколько больше или меньше этих ПК сможет позволить себе гражданин за доход одного и того же размера в этом году по сравнению с прошлым годом. Для этого нужно лишь сравнить цены товаров и услуг, входящих в одну и ту же корзину в начале текущего и в начале следующего расчетного периода, их суммировать, а затем одну и ту же по номиналу денежную сумму разделить на стоимость корзины, определенную в начале обоих периодов. Изменения в количестве корзин, которые можно приобрести на одну и ту же номинальную сумму платежных средств, легко пересчитать в проценты, что и будет, как мне представляется, вполне достоверным показателем темпа инфляции. Соответственно, уменьшение количества ПК на 100 тысяч рублей в процентах будет означать ускорение (усиление) инфляции, а увеличение – ее снижение. Всё достаточно понятно.
Идея в самом общем виде, строго говоря, не нова. Даже такой убежденный монетарист, как автор популярной книги «Экономический образ мышления» американец Пол Хейни, настаивает, что природа инфляции заключается именно в обесценивании денег (для него, как и всех современных монетаристов, деньги и дензнаки – одно и то же), а вовсе не в повышении цен.
Более того, именно исходя из покупательной способности дензнаков можно адекватно посчитать гораздо более нам привычный общий (средний) уровень цен в данной валюте и, соответственно, его динамику. Причем очень легко. Для этого достаточно перевернуть соотношение между числом потребительских корзин и определенной суммой дензнаков на обратную ему величину.
Делим, скажем, 100 тысяч рублей на ранее посчитанное число ПК и получаем среднюю стоимость (цену) одной корзины, а затем определяем ее изменение за рассматриваемый период времени (месяц, квартал, год и т.п.). Причем в ПК можно «вбить» все необходимое для жизни современного индивида, то есть жизненный стандарт. То же самое, если понадобится, можно проделать и с любым отдельно взятым товаром. Важно, чтобы сравниваемые товары по своему функциональному назначению и потребительским свойствам были идентичны. Например, чтобы мясо и овощи были одного и того же ассортимента и сорта, костюмы и обувь – из равных по качеству материалов, одного уровня пошива и т.д., и т.п.
Такой показатель, как индекс потребительских цен (ИПЦ), потому не обладает всеобщностью и объективностью, что зависит от структуры (процентного соотношения) потребления тех или иных товаров и услуг. Соответственно, меняя структуру потребительской корзины, ИПЦ можно, к примеру, легко подогнать до политически приемлемых значений. Поэтому для разных по величине доходов социальных страт ИПЦ, если посчитать по реальному, а не искусственно усредненному потреблению, ИПЦ должен иметь существенно различающиеся значения. Недаром увеличение стоимости коммунальных услуг, например, бьет, прежде всего, по бедным слоям населения.
И когда пенсионерам, опираясь на статистику по ИПЦ, говорят, что инфляция при 30-процентном росте квартплаты составляет всего 10–11 %, они, естественно, возмущаются – ведь известно, что квартплата, электроэнергия, газ, вода, основные продукты питания составляют в бюджете малоимущих чуть ли не 70–80 % против 20–30 % у богатых россиян.
Считаю, что негодность ИПЦ как показателя инфляции в России просто бьет в глаза. Тем более по нему трудно точно сопоставлять темп инфляции в разных странах, так как отличия в структуре потребления между ними могут быть весьма заметны. Получается, что сколько у нас разных структур потребления, столько и цифр роста инфляции. А вот покупательная способность какой-либо валюты в ареале ее распространения одинакова для всех – и для олигарха, и для дворника, и для пенсионера.
Представляется, что для более полного анализа инфляции полезно рассмотреть несколько вариантов, при которых рост платежеспособного спроса по отношению к ценовому предложению либо ведет к инфляции, либо нет. Если рост платежеспособного спроса толкает на расширение производства востребованных товаров в силу наличия у производителей значимых резервов производственных мощностей, то цены могут и не вырасти. А продавцы выиграют за счет роста массы прибыли, а не ее нормы. Но если производственных резервов нет, то производители смогут отреагировать на рост спроса лишь повышением цен своих товаров и услуг. Однако, скорее всего, мы имеем массу промежуточных ситуаций, например, когда производственные резервы есть, но их, скажем, недостаточно. В результате, несмотря на рост объемов производства и, соответственно, продаж, цены могут подрасти, хотя и в меньшей степени. Это элементарное рассмотрение в какой-то мере помогает понять, что рост платежеспособности населения не во всех случаях порождает инфляцию.
Инфляция спроса не так опасна, как инфляция издержек, поскольку при ней рост платежеспособности покупателей опережает рост цен на товары, которые могут в худшем случае лишь подтянуться до уровня спроса. Более того, как можно видеть, при наличии условий для расширения производства рост платежеспособности населения стимулирует экономический рост, тогда как при инфляции издержек рост цен явно опережает рост доходов, понижая покупательную способность средств обращения и платежа в виде денежных знаков и снижая тем самым реальный платежеспособный спрос их обладателей со всеми вытекающими негативными последствиями.
В результате относительное сжатие платежеспособного спроса населения ведет к уменьшению объема продаж и сворачиванию производства, порождающему, в свою очередь, рост безработицы, который еще больше сжимает платежеспособный спрос. Получается как бы сужающаяся финансово-экономическая спираль или своеобразный штопор. Экономика постепенно входит в пике, из которого ей очень трудно выбраться. И чем больше темп инфляции издержек, тем больше вреда людям и экономике в целом.
Именно соотношение динамики платежеспособного спроса и цен товаров или услуг может служить критерием отличия инфляции спроса от инфляции издержек. Конечно, речь идет только об устойчивых динамических соотношениях того и другого.
Это позволяет вполне обоснованно поставить под сомнение несколько лукавое, на мой взгляд, утверждение известного шведского экономиста Эклунда Класа о том, что отличить инфляцию спроса от инфляции издержек якобы невозможно. Именно на этот тезис любит ссылаться один из патриархов российских либеральных экономистов Евгений Ясин, когда отстаивает исключительно монетарную природу инфляции.
Если, скажем, рост цен, по данным статистики, за год устойчиво опережает и превышает рост доходов, то перед нами инфляция издержек в чистом виде. Даже тогда, когда скачок цен носит разовый характер, как это делается у нас в отношении коммунальных услуг и общественного транспорта в начале года.
В России рост цен, как правило, весьма заметно опережает рост платежеспособного спроса именно за счет скачков цен на незаменимые товары и услуги массового спроса. Яркой иллюстрацией инфляции издержек в России, думаю, может служить рост цен с 1992 по 1999 год. Да и в дальнейшем понижался в основном темп инфляции, но не ее характер. И такая инфляция издержек усугубляется налоговыми надбавками на цены в виде НДС, акцизов и т.п.
Хотя бы потому, что любой рост цен одновременно увеличивает эти налоги по абсолютной величине и усиливает тем самым его действие. Подозреваю, что есть и другие более тонкие механизма ускоряющего влияния НДС на динамику роста цен. Например, в этом процессе не последнюю роль могут играть различия в скорости оборота капитала на предприятиях, выпускающих ту или иную продукцию, вследствие разницы между ними в длительности технологических циклов.
Кстати, преобладание в России инфляции издержек, как мне кажется, обнажает надуманность утверждений правительственных и околоправительственных либералов о чрезмерных социальных выплатах из бюджета. Эти выплаты реально оборачиваются всего лишь далеко не полной и отстающей по времени от цен индексацией доходов бедных слоев населения.
Разумеется, в экономических реалиях может иметь место то или иное сочетание обоих типов инфляции. Влияние их на экономику во многом противоположное, поэтому возможны разные варианты совместного воздействия этих инфляционных процессов.
Что касается вопроса, чем именно определяется покупательная сила денег, то я считаю: это зависит еще и от того, как мы интерпретируем то, что сегодня называем деньгами. С точки зрения группы «Собственность для всех», денежные знаки или валюта – это долговые обязательства государственной власти по обеспечению права и возможности обладателю определенной по номиналу денежной суммы получать в обмен столь же определенное количество определенных товаров.
Известно, что любая частная долговая расписка может быть локальным средством обращения. В этом свете инфляцию можно также определить как частичный отказ власти от выполнения своих обязательств перед держателями национальной валюты. Делает ли это власть путем избыточной эмиссии дензнаков или же закрывая глаза на повышение цен жизненно важных товаров и услуг, в данном случае, непринципиально.
То есть я склонен думать, что инфляция вообще-то отнюдь не стихийное бедствие, с которым надо бороться, а вполне рукотворное явление. А борьба правительств с инфляцией уж очень напоминает борьбу нанайских мальчиков. Конечно, у них часто выходит не так, как они хотели, но в целом они успешно добиваются поставленной цели –облегчить наши карманы.
 Кроме того, банкноты ЦБ и другие дензнаки являются, как установил еще Маркс, лишь представителями или заместителями настоящих денег (всеобщего эквивалента, а значит, и меры стоимости) в сфере обращения, являя сегодня собой основу финансовой системы государств. Думается, и сегодня не стоит отказываться от Марксова определения денег как всеобщего эквивалента и меры стоимости. И не потому, что оно Марксово, а потому, что оно действительно верное. Иначе мы оказываемся на территории, где господствуют монетаристы, выдающие кусочки бумаги и цифирь на счетах за истинные деньги. Хотя мерой стоимости может быть только то, что само имеет стоимость.
Кроме того, банкноты ЦБ и другие дензнаки являются, как установил еще Маркс, лишь представителями или заместителями настоящих денег (всеобщего эквивалента, а значит, и меры стоимости) в сфере обращения, являя сегодня собой основу финансовой системы государств. Думается, и сегодня не стоит отказываться от Марксова определения денег как всеобщего эквивалента и меры стоимости. И не потому, что оно Марксово, а потому, что оно действительно верное. Иначе мы оказываемся на территории, где господствуют монетаристы, выдающие кусочки бумаги и цифирь на счетах за истинные деньги. Хотя мерой стоимости может быть только то, что само имеет стоимость.
Точно так же мерой веса может быть то, что имеет реальный вес, а мерой длины – только то, что имеет наблюдаемую и осязаемую длину. И выдавать за всеобщий эквивалент бумажки или цифры в банковском компьютере (Михаил Хазин и Андрей Кобяков пишут об этом всерьез), на которых написано «столько-то долларов или евро», – то же самое, что выдавать этикетку на батоне колбасы за сам батон, пустую обертку от конфеты – за конфету, а слово «халва» – за халву.
Понятно, что покупательная сила современных денег (дензнаков) определяется наличием товаров, а еще возможностью произвести их при наличии потребности в них. Но она определяется и ценами этих товаров. А есть, напоминаю, товары, которые всегда находят сбыт даже при повышенных ценах. На них и стоит, полагаю, ориентироваться при определении покупательной способности (силы) дензнаков.
