Автономия или сопротивление?
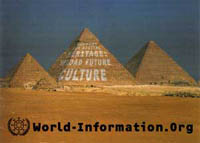 Искусство как способ коммуникации адресовано чаще к нашим эмоциональным реакциям, впечатлению, а не к аналитическим способностям. Традиционно оно понималось как «воспитание чувств», а не оттачивание разума. Потому оно и действует обычно через образ, а не через факт.
Искусство как способ коммуникации адресовано чаще к нашим эмоциональным реакциям, впечатлению, а не к аналитическим способностям. Традиционно оно понималось как «воспитание чувств», а не оттачивание разума. Потому оно и действует обычно через образ, а не через факт.
Глобализация – это веер проекций экономического неолиберализма во все сферы жизни, от гастрономии до астрономии. Вторжение тоталитарных рыночных принципов в повседневность дает повсеместное и позорное упрощение отношений как внутри всех сообществ, так и между человеком и природой и, в конечном счете, означает нарастающую энтропию наших возможностей, автоматизацию жизни и сознания, отказ от утопических амбиций внутри человеческого вида.Искусству этот процесс отводит роль выгодного для торговли дизайна или безопасного хобби, места «галерейных революций», то есть периферийной части индустрии отдыха и не более. Таким образом, черты конфликта между искусством и капиталистической глобализацией очевидны.
Искусство может оказывать сопротивление глобализации, но только если под глобализацией мы будем понимать исключительно процессы внутри самой арт-среды, корпоративный контроль на рынке актуального  искусства, не шире. В этом узком смысле художник или сообщество художников вполне успешно совершают жесты протеста, сопротивления и временного «присвоения» арт-рыночной территории. Вот имена только самых заметных групп, ведущих подобный арт-джихад: «Critical Art Ensemble», «Art Workers Coalition», «Paper Tiger TV», «Group Material Guerrilla Girls».
искусства, не шире. В этом узком смысле художник или сообщество художников вполне успешно совершают жесты протеста, сопротивления и временного «присвоения» арт-рыночной территории. Вот имена только самых заметных групп, ведущих подобный арт-джихад: «Critical Art Ensemble», «Art Workers Coalition», «Paper Tiger TV», «Group Material Guerrilla Girls».
В рамках искусства сопротивление часто приобретает характер изоляционизма, создания на территории системы «линз альтернативы», самодостаточных субкультур, «временных», либо «устойчивых» автономных зон в терминологии Хаким-Бея, популярного теоретика арт-джихада.
Однако если под новым глобалистским порядком понимать процесс «товаризации мира» целиком, искусство оказывается беспомощно и обречено на упрощение и коммерциализацию даже в своих автономных партизанских заповедниках. В такой оптике арт-проекты и сообщества могут служить моделью, ресурсом, но никак не самостоятельной практикой, и поэтому возникает вопрос их актуального включения в более общий контекст сопротивления глобализму.
Ситуационисты задали весь будущий имидж первому поколению «новых левых». В 68-м будущие знаменитости, вроде Жерара Фроманже, создали Atelier des Beaux-Arts, где печатались плакаты парижского восстания. Герхард Рихтер выставлял перерисованные из газет фото погибших в Штамхайме лидеров городских партизан, что вызвало острейший политический спор в немецком обществе. Имидж «антиглобализма» складывался под непосредственным влиянием арт-групп «Какофоническое сообщество», «Саботаж коммьюникейшн» и множества других, названных выше. Известный рекламист, дизайнер и писатель Фредерик Бегбедер был официальным стилистом французской компартии (серия плакатов «Помоги левым остаться левыми»).
Смехотворно сужая возможности «нейтралитета», глобализм снова ставит перед художником принципиальный вопрос: кому принадлежать? Господствующим отношениям, то есть нынешней корпоративной элите, либо иным возможным отношениям, то есть контрэлите в одном из ее вариантов?
И можно ли «не принадлежать никому»? Принадлежать себе? Свободно служить музам? Нельзя, потому что «себе» это значит представителю класса, группы, направления, исторической ситуации и т.п. «Себе» не значит только что родившемуся в колбе волшебному и свободному существу.
Априорная не самостоятельность художника следует из природы его деятельности. С одной стороны, он как ремесленник, продает то, что придумал головой и сделал руками, но с другой – он по-пролетарски пристегнут к заказчику-хозяину-галерее.
Искусство может быть социальной диагностикой, но не может быть социальной терапией. Андрей Молодкин может наполнять стеклянные буквы FUCK YOU сырой нефтью, но это не может повлиять ни на цену нефти, ни на распределение в обществе доходов от ее продажи. Костя Звездочетов может издеваться над обществом потребления в «XL Галерее», суя этому самому обществу под нос его же утрированную до абсурда «систему сигнальных вещей», но само по себе это на потреблении никак не скажется. Отсюда в утопиях, стремящихся преодолеть отчуждение – от Платона до сюрреалистов и ЛЕФа – этот навязчивый мотив ликвидации искусства как специальной области. Там, где нет отчуждения и пагубной автоматизации психики, нет и отдельной работы у художника. Происходит переход от «так может каждый!» к «так делают все». В обществе добровольного и творческого труда художниками становятся все и об этом перестают говорить. Вспомним определение идеолога ЛЕФа Сергея Третьякова: «Искусство как переходная форма сознания, уже не религиозное, но еще и не научное».
Политический художник
Довольно распространено мнение, что человеку творческому дела нету (точнее, не должно быть) до политики, тем более до радикальной, а получается нередко наоборот. Один из актуальных примеров – Грегори Шолетт. Он выполняет из пластмассы фигурки типизированных антиглобалистских демонстрантов и бастующих шахтеров и всерьез предлагает фабрикам детских игрушек запустить пробную серию, выкладывает переписку с менеджерами по игрушкам в своем блоге.
«Заигравшимся в политику» авторам и их почитателям часто напоминают, мол, от экстремистских взглядов до оружия – миллиметр разницы, взгляды эти самые у тех только бывают, кто талантом не вышел на чистом искусстве сделать имя и сомневается в себе как в художнике. Гораздо реже можно встретить возражения против такой позиции. Вот некоторые из них.
 Художественная самореализация всегда совершается вопреки существующему «статус-кво» за счет нарушения не только эстетических, но и политических норм (они ведь тайно увязаны), хотя и с парадоксальным учетом этих самых норм. Это очень давно началось. Можно даже сказать «всегда было». Нужно ли напоминать радикальную политическую ангажированность йенских романтиков, «придумавшего модерн» социалиста Уильяма Морриса, итальянских футуристов, европейских экспрессионистов и сюрреалистов, «Баухауса», немецкой «новой вещественности», красный партбилет в кармане Магритта, «Ноябрьскую группу» и антидизайнеров-анархистов из групп «Архиграм» и «Архизум». Это не курьез, а неизбежность. Нарочитый политический «экстремизм» авангардистов не есть досадное недоразумение или просто следствие «метущейся души».
Художественная самореализация всегда совершается вопреки существующему «статус-кво» за счет нарушения не только эстетических, но и политических норм (они ведь тайно увязаны), хотя и с парадоксальным учетом этих самых норм. Это очень давно началось. Можно даже сказать «всегда было». Нужно ли напоминать радикальную политическую ангажированность йенских романтиков, «придумавшего модерн» социалиста Уильяма Морриса, итальянских футуристов, европейских экспрессионистов и сюрреалистов, «Баухауса», немецкой «новой вещественности», красный партбилет в кармане Магритта, «Ноябрьскую группу» и антидизайнеров-анархистов из групп «Архиграм» и «Архизум». Это не курьез, а неизбежность. Нарочитый политический «экстремизм» авангардистов не есть досадное недоразумение или просто следствие «метущейся души».
Искусство и власть
Искусство сводится к акту деавтоматизации сознания зрителя.
Обеспечение этого эффекта и есть, собственно, «успех» не в коммерческом, а художественном смысле. Такая практика вряд ли может служить установленной власти, потому как главный ресурс для возможности осуществления власти – максимальная автоматизация сознания контролируемых людей. Отсюда: художественная практика является не просто нейтральной, но подрывной уже потому, что стремится уменьшить возможности контроля над людьми. Она имеет целью альтернативную, свободную от власти, коллективность. Поэтому современный художник объективно находится в конфликтном отношении к системе власти, просто по роду своей деятельности.
Насколько художник сам это осознает, другой разговор. Те, кого приводят в пример как «экстремистов», видимо, осознают до некоторой степени. Искусство как практика есть не заповедник даже, но тыл для партизанских настроений и проектов, база для освобождения, по-настоящему возможного, конечно, лишь за пределами искусства. То есть современное искусство является либо революционной альтернативой, либо автономной зоной, разница между которыми временна. Теодор Адорно в истекшем веке – наверное, самый последовательный из теоретиков отстаиватель такого взгляда. А из практиков острее других это чувствовал Бретон и многие из его сюрреалистического круга, например, Пьер Навиль.
А вот три строки Маяковского:
Буржуазия только затем и нужна,
Чтобы сначала делать из мухи слона,
А потом торговать слоновою костью.
Мы присутствуем при деавтоматизации, размыкании фразеологизма, но результат этого принадлежит буржуазии, становится объектом продажи. То есть не как общая практика, но как ее частный результат, не как художественная функция, но как созданная для поддержания этой функции структура, произведение искусства, конечно, может, и сплошь и рядом принадлежит власти. Правда, всегда, когда власть что-то в искусстве объявляет «своим» или хотя бы «приемлемым», результат для искусства бывает жалкий. Из «нужных» произведений и авторов приходится выпаривать саму художественную функцию, превращать их в слепые пятна, оставляя «полезное содержание», то есть сводя художественность к прямой пропаганде и рекламе, после чего аудитория, как правило, теряет всякий интерес – и его приходится искусственно подпитывать-имитировать. То есть на чисто «содержательном», сюжетном уровне власти еще может что-то принадлежать, но только в случае, если власти удается превратить выбранное искусство в окаменелость, в призрак, косвенно напоминающий о роскошном прошлом. Толку от таких окаменелостей и призраков мало, потому как служат они не эмансипации и самореализации, но подавлению, стабилизации и контролю.
Власть – это способ обеспечения эксплуатации одной группы лиц другими. В этом смысле сущность художественной деятельности противоположна практике власти. «Нейтральность» – это всегда лукавое название лояльности и принадлежности власти, мечтающей осуществляться незаметно и само собой разуметься, как погода. Художник, способный к маломальской рефлексии своего творчества, просто это осознает и политически формулирует, в том числе и в творчестве. Подчас он использует действительно первые подвернувшиеся под руку политические символы, лишь бы очевиднее засвидетельствовать конфликтность («антисистемность») своей позиции и таким образом попадает в «фашисты», «диссиденты», «нацболы», «маоисты», «антиглобалисты» и т.п. Более осознанная позиция – подключение к участию в культурной политике левых. При условии, что у левых есть такая политика.
Арт-фашизм и арт-марксизм
Сегодня салонный «фашизм» дает художнику желаемую скандальность. Реакционный обыватель видит в нем свою тайную мечту. Узнав, что его неприличные фантазии о сверхчеловеческом статусе и абсолютной власти где-то выставлены публично, обыватель одновременно испытывает эйфорию и стыд, становится потребителем арт-фашизма. Зато марксизм может дать художнику подлинную оригинальность, то есть способность показать абсурд отношений, в которые мы ежедневно включены и возможность их изменения в более достойную человека сторону. Такое искусство послужит Событиям, а не компенсации их отсутствия. Оно встанет на службу обществу, в котором никто не будет ни обывателем, ни потребителем.
