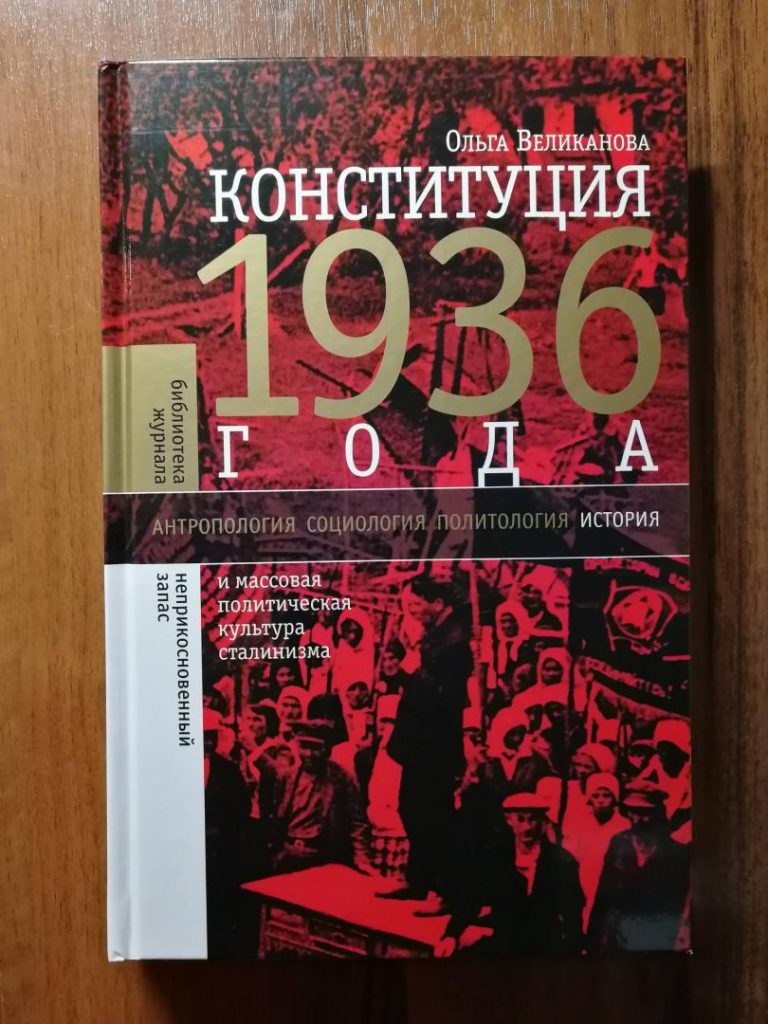Эффект кошки Джемаля
Много лет назад я спросил Гейдара Джемаля, что он думает про мемуарную книгу, где он фигурировал в качестве одного из основных героев. Гейдар посмотрел на меня своим тяжелым взглядом и отчеканил: «Эту книгу могла бы написать моя кошка. Всё видела, но ничего не поняла».
Поразмыслив над этим ответом я пришел к выводу, что кошка Джемаля могла бы написать не одну, а множество книг, в том числе и вполне академических. В последний раз я вспомнил о ней, когда начал читать исследование Ольги Великановой «Конституция 1936 года и массовая политическая культура сталинизма».
Надо сказать, что эта работа уже получила большое число хвалебных отзывов, причем в известном смысле вполне заслуженных. Автор не только подробно описала весь процесс подготовки новой конституции, начиная с адресованной И.В.Сталину Авелем Енукидзе записки от 25 мая 1933 года и заканчивая огромным массивом складированных в архивах данных о предложениях и отзывах советских людей, собранных во время официального обсуждения нового Основного Закона. Так что если бы автор ограничился публикацией и обзором этих материалов, книга была бы в высшей степени полезна для специалистов, которые хотят сэкономить время на собственных архивных изысканиях.
Увы, Ольга Великанова поставила перед собой куда более амбициозную задачу, которая отчасти выражена в подзаголовке книги. И более того, она непосредственно связывает конституционную реформу с началом Большого Террора 1937 года, явившегося, по её мнению, незапланированным результатом попытки демократизации советской системы. Попытки, которая провалилась и спровоцировала поворот в прямо противоположном направлении. Концепция выглядит очень красиво и была бы достойна внимания, если бы опиралась на более широкий круг источников и учитывала другие исследования по этой и смежным темам. Но к сожалению, именно в этот момент перед нами появляется кошка Джемаля.
Используя большое количество источников связанных с конституционной дискуссией, Великанова удивительным образом игнорирует другие публикации, посвященные иным событиям той же эпохи. Причем доходит до курьезов. В книге, затрагивающей тему Большого Террора в глоссарии вообще не упомянут Сергей Киров. На самом деле упоминание о нем в тексте есть — в связи с его убийством, но совершенно нет ни малейшей попытки проанализировать значение этого события, его связь с политическими процессами в стране и борьбой внутри партии. Хотя именно это событие послужило спусковым механизмом для развязывания террора. Конечно, в деле Кирова до сих пор остаются не вполне ясные моменты, заставляющие многих авторов пускаться в конспирологические размышления. Но само то событие не заметить и не оценить, казалось бы, невозможно. Хотя нет, возможно.
Точно также игнорируется автором XVII съезд ВКП(б), на котором Сталин неожиданно столкнулся с явной фрондой партийной элиты, не оставшейся, естественно, без последствий — большинство делегатов «съезда победителей» было в годы Большого Террора репрессировано, после чего молва переименовала его в «съезд расстрелянных».
Надо сказать, что Коммунистическая партия, борьба внутри её руководства или деятельность её органов вообще не заслуживает внимания Великановой. Справедливости ради можно заметить, что именно эти аспекты советской истории неплохо разработаны. Но одно дело — сосредоточить исследовательский интерес на менее изученных темах, а другое — игнорировать то, что сделано другими авторами, особенно — если речь идет о принципиально важных сторонах государственной жизни. Ведь как бы ни была важна советская конституция, все прекрасно знают, что реальная власть в СССР сосредоточена была не в Советах, а в партийных органах. Именно там принимались все сколько-нибудь значимые решения, там велась борьба, плелись интриги, вершились судьбы людей. Даже если предположить, что система Советов в 1930-е годы была чем-то большим, чем просто декорацией или институтом, процедурно оформляющим принимаемые постановления и обеспечивающим некоторые стороны их реализации, нет никаких оснований представлять дело так, будто Советы были самодостаточны и самостоятельны. Потому и дискуссии партийных лидеров о процедурах формирования Советов и возможности появления на выборх альтернативных кандидатов, принимаемые Великановой за обсуждение перспектив и угроз демократизации, на самом деле являются не более чем обсуждением технических вопросов, может быть и не совсем малозначительных, но всё же совершенно второстепенных для функционирования власти.
Вообще в книге Великановой наблюдается странная двойственность. С одной стороны, она постоянно повторяет общие места про тоталитаризм, а с другой стороны, совершенно серьезно относится к различным «демократическим» инициативам, обсуждавшимся в сталинском окружении. При этом роль идеологии, постоянно констатируемая на уровне авторских деклараций, совершенно игнорируется, когда речь идет о реальной жизненной практике. А между тем, в отличие от западных демократий, именно идеологические нормы выступали в СССР в качестве своего рода аналога конституционного права, именно к ним, а не к Основному Закону (да и вообще к писаным законам) апеллировали советские люди, когда пытались отстоять перед государством свои права и интересы. Причем апеллировали небезуспешно, а иногда и сравнительно эффективно манипулировали дискурсом власти, используя его для решения своих бытовых проблем. Ясное дело, к политическим вопросам это не относилось, но эти вопросы заведомо рассматривались рядовыми людьми как находящиеся вне их сферы. В поисках объяснительной модели тут буквально напрашивается обращение к идеям Мишеля Де Серто о тактиках «маленького человека», противостоящих большой стратегии государства. Но Великанова ищет в другом месте. Психологические механизмы адаптации советского «маленького человека» к зигзагам государственной политики объясняются на уровне удивительного обобщения: эту логику поведения показали «многие авторы, такие как Достоевский, Фромм, Эткинд и Коткин» (с. 291). Что именно они вместе и каждый из них в отдельности показали и как это относится к специфической ситуации 1936-37 годов, к несчастью, остается загадкой (даже последующая ссылка на А.Эткинда относится к его работе о послесталинской России).
Если обстоятельность, с которой Великанова поработала с архивными материалам конституционной дискуссии, вызывает восхищение, то её последовательное игнорирование целых пластов исторической литературы и того, что писали современники происходивших событий, просто изумляет. Например, в её книге есть всего лишь одно упоминание о Л.Д.Троцком в связи с его книгой «Преданная революция», в которой, по словам Великановой, «опровергалось, что в России был построен социализм» (с. 77). Если бы Великанова удосужилась всё же хотя бы пролистать эту книгу, она бы обнаружила в ней целый раздел (глава 10), посвященный сталинской конституции, т. е. имеющий самое прямое отношение к теме её исследования. Аналогичная судьба, похоже, постигла в ходе работы Великановой и «Азбуку коммунизма» Н.Бухарина и Е.Преображенского, которая в книге упоминается, но из контекста явно следует, что автор с ней не знакома. Вообще обычным приемом в данной работе является указание на тот или иной источник по косвенной ссылке или упоминании в какой-то либо статье из англоязычного журнала, посвященного советологии или славистике. Подобного рода косвенное цитирование допустимо если речь идет о каком-либо редком или труднодоступном источнике, существующем на экзотическом, неизвестном автору языке, но обращаться так с общедоступными книгами, написанными на родном языке автора, просто неприлично.
Обобщающие суждения Великановой тоже не могут не впечатлить читателя, настроившегося на то, что ему предстоит иметь дело с исследованием, основанном на фактах и архивных данных. Так на той же странице, где она упоминает злосчастную книгу Троцкого, автор сообщает нам, что Сталин считал пропаганду и агитацию «всемогущими» и верил в их способность «менять личность и психологию» (с. 77). Откуда такой вывод относительно взглядов Сталина? Всё дело в том, что вождь народов — «наследник философии Просвещения» (там же). Короче, виноваты Вольтер и Дидро, которые, впрочем, ничего подобного никогда не говорили.
Не менее странно звучат фрагменты, посвященные лидеру правой оппозиции Николаю Бухарину, который то предстает перед читателем обычным сталинистом, то, напротив, оценивается как человек, мечтавший о демократии. Подобные противоречия объясняются тем, что автор просто не ставит перед собой задачу как-то проанализировать не только логику поведения и идеологической эволюции Бухарина, но и в принципе игнорирует, как уже говорилось, разногласия и борьбу внутри партии. Если бы она менее внимательно читала цитируемые в качестве авторитетных источников блоги «Эха Москвы», зато потратила больше времени на знакомство с опубликованными за прошедшие три десятилетия работами российских историков и экономистов (от Вадима Роговина до Андрея Колганова и Александра Шубина), то могла бы открыть для себя много нового. Например, то, что колебания политического и экономического курса в СССР поздних 1920-х и 1930-х годов имели под собой вполне объективные основания, а в партии шла острая борьба течений, которая не только не завершилась после поражения правой оппозиции, а напротив — приняла новые, более острые формы из-за чего Сталин, пережив вызов партийной фронды XVII съезда, уже не мог чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока не подавит любые источники не только реальной, но и потенциальной оппозиции.
Однако вернемся к Великановой. В конечном счете огромная работа по собиранию материалов приводит её к сумме весьма банальных даже не выводов, а идеологем относительно авторитарного сознания, якобы присущего советским людям и каким-то непонятным образом унаследованного людьми постсоветскими, которые, согласно социологу Г.Мирскому «сталинистами не становятся, ими рождаются» (с. 260). И хотя в тексте книги есть неоднократные ссылки на труды Эриха Фромма, нет ничего более противоположного его подходу, чем подобные утверждения. Ведь Фромм как раз показывал, что авторитарный характер порождается совершенно конкретными историко-социальными и экономическими условиями, анализу которых он и уделял основное внимание. Хотя Фромм связывал происхождение и функционирование авторитарного характера со специфическими процессами развития западного капитализма, нет, конечно, никаких причин утверждать, будто аналогичные деформации невозможны в других социальных системах, включая советское общество. Только анализировать происхождение и развитие этих психологических явлений нужно (если, конечно, следовать Фромму) на основании социальной реальности, тогда как либеральные интеллектуалы, на которых ссылается Великанова, продолжают верить, что вся беда в русской политической культуре, которая «недостаточно восприимчива к либеральным ценностям» (с. 21). Тот факт, что советское общество, даже в сталинские времена, на самом деле было куда более сложным и противоречивым, чем следует из теории тоталитаризма, на которую опирается автор, буквально вопиет из каждой приводимой Великановой цитаты, но это так и не приводит её к сколько-нибудь внятному выводу.
Перечисляя мнения и теории, автор все их преподносит с некоторой долей сомнения, но при этом не решаясь подвергать их критическому анализу. Она то ссылается на стресс ускоренной модернизации, то говорит про перенос крестьянской архаической психики в новую индустриальную среду, то вспоминает другие объяснительные модели, из которых так и не решается выбрать одну, вызывающую у неё большее доверие. Последовательно приводя всевозможные мнения, высказанные во время конституционной дискуссии — от критических и до ультра-лоялистских как «идеологически вредных», до полностью соответствовавших официальным ценностям, автор растерянно останавливается перед неоднородностью обрушившегося на неё материала, чтобы завершить своё исследование банальным выводом: «Силы модерна, архитипические элементы русской традиционной культуры, диктаторский режим, катастрофический характер общественной жизни — все это в совокупности обусловило формирование политической культуры сталинизма» (с.337).
Как говорил один из героев Шекспира, «чтоб это нам сказать, не стоило вставать из гроба».