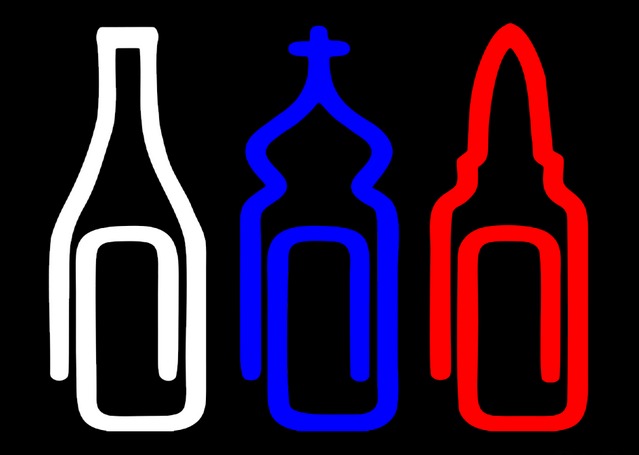
© Dirty.ru
14 апреля 2016 года, в день традиционной «Прямой линии» народонаселения Российской Федерации с президентом, дагестанская газета «Черновик» опубликовала видеоролик, в котором житель чеченского села Кенхи Рамазан Джалалдинов жаловался главе государства на низкое качество жизни в глубинке, дискриминацию местного населения со стороны властей и на их же невнимание к проблемам простых людей. Спустя месяц глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью информацию о преследовании Джалалдинова и поджоге его дома, а заодно и уведомил общественность о том, что было возбуждено уголовное дело по факту клеветы – естественно, на безвинных руководителей села Кенхи, которым, судя по всему, мечтал навредить Джалалдинов, которого за несколько недель успели окрестить «необразованным», «неадекватным» и, конечно же, «пособником боевиков». Последнее с привычным энтузиазмом заявил, естественно, Альви Каримов, обличитель Собчак и тонкий знаток юмора.
Впрочем, самое интересное в этой не слишком оригинальной для Северного Кавказа истории началось позже. 20 мая глава села Магомед Гаджиев доложил, что на сходе жителей было подписано обращение все к тому же президенту России, где слова немолодого уже Джалалдинова были названы не только ложью и скандалом, но и провокацией нечистоплотных людей против «уважаемого всеми» Рамзана Ахматовича, подрывающей – внимание – «авторитет его родственников, которые придерживаются традиций и обычаев горских народов».
Именно эта деталь, вроде бы характерная для некоторых регионов нашей страны, должна приковывать наше наибольшее внимание.
В последние годы, если так можно назвать период чуть ли не десятилетний, обращение к разного рода «традициям», «верованиям», «памяти» и «чувствам» стало не просто свойственным российской политике, но с подачи высокопоставленных лиц воспринимается как должное, как нечто важное и характерное для развития страны.
«Наши ценности надо защищать», «переданные нам предками традиционные ценности», «аморальный интернационал, лишенный уважения к традициям», — все эти приевшиеся уже формулировки прочно вошли в нашу жизнь, и от того мантра «традиционных ценностей», размытая ничуть не меньше, чем доктринальные установки экономической политики, используется без малейшего осознания ее смысла. История с возвращением Крыма лишь усугубила этот вектор, хотя и не была его началом, — в российскую повестку вплелись «русы II века», сакральный Херсонес и прочие кирпичики нового традиционалистского фундамента.
Ответом на расцвет подобного «высокого стиля» стали, конечно же, апелляции к светскому и демократическому характеру российского государства, которые закреплены в нашей Конституции. Они часто являются аргументами в давнем споре сторонников и противников расширения, к примеру, церковного участия в политической жизни. Впрочем, этот же самый спор показывает, что упоминание Конституции нисколько не усиливает, так скажем, «секулярных позиций» — секрет, по всей видимости, в том лишь, что юридическому моменту и букве закона противостоит тот самый политический курс, который исправно легитимирует едва ли не любые рассуждения о традиции. Потрясающим примером ползучей традиционализации может быть даже не кадыровская теория многоженства или перманентное напоминание о любви страны к «сильной руке», а, к примеру, недавний текст Ильи Ферапонтова о состоянии российской космической отрасли. Напомним, Ферапонтов, нисколько не стесняясь, заявил, что
«да, на строительстве космодрома были обнаружены многочисленные злоупотребления», но «нет, в этом нет ничего выдающегося с точки зрения российской практики (…) иначе в России хозяйствовать нельзя».
Традиция, понимаешь ли. Тенденция, как в одном анекдоте выражался эрудированный чукча.
Легитимация самого термина «традиционный» как важного политического маркера и даже как орудия различения «своих» и «чужих» прошла для нас практически незаметно. Но при этом именно она привела к тому, что распространенными и общепринятыми стали не только представления о «светлом, добром и вечном», находящиеся в головах политиков и чиновников, но и совершенно не ожидавшиеся ими другие «традиции», выросшие, как грибы после дождя, или вернувшиеся из архаичных представлений о былом. Идеализация прошлого, к тому же изрядно дополненного выдумками и теми самыми «фальсификациями», с которыми так самоотверженно борются депутаты и госслужащие, — лишь вишенка на нашем коллективном торте. Под ней же толкаются плечами хирурги и энтео, макаренко и дугины, прохановы и мизулины, стариковы, милоновы и гавриловы. Все как на подбор — традиционалисты и ревностные адепты «исконных ценностей».
Эрик Хобсбаум в свое время писал, что изобретенная традиция обладает, как правило, фиктивной связью с историческим прошлым и, по сути, представляет собой ответ на новую ситуацию в виде отсылки к ситуации старой. Мы же можем предположить, что обращение к условной «традиции» – условной в силу ее неясности, зыбкости, аморфности, кроме, конечно, единственной четкой черты «почтения к государю» – более подходит на ситуацию, охарактеризованную Романом Якобсоном как «афазия». Афазия в социальном пространстве – это неспособность объяснить происходящее, вызывающая обращение к прежним символическим практикам и семантическим формам. Примером афазии может быть, допустим, политика Эрдогана, объясняющего «османскими» традициями свои репрессивные решения во внутренней политике, или, по мнению Сергея Ушакина, постсоветские практики, когда средством усиления нового патриотизма стало возвращение старого по сути своей гимна Александрова. Афазия выдает политическое бессилие власти, ее неспособность адаптироваться к новой реальности – она сама по себе есть признак не консерватизма, а ригидности.
Вместе с тем нередко можно услышать мнение, что для людей, находящихся у власти в период ценностного пиршества и афазии, последние не представляют никакой проблемы: формула «разделяй и властвуй» у нас в стране известна даже человеку, который не интересуется политикой и никогда не читал ни Бэкона, ни Макиавелли.
Однако важно помнить, что в тех же, например, республиках Северного Кавказа неотрадиционализм — игра довольно рискованная, а чиновники и политики-инкумбенты повсеместно не заинтересованы в каких бы то ни было угрозах обычным властным практикам. Нетрудно было заметить, к примеру, что восхваление крымской кампании 2014 года быстро перешло в негодование по поводу сравнительной «пассивности» на Донбассе: сакральные песнопения о Херсонесе вдохнули жизнь в идеи Новороссии, и многие отнеслись к этому проекту куда серьезнее, чем задумывалось изначально. Сегодня модно говорить о «традиционных ценностях», но в каждой воскресшей традиции чиновник угадывает и возможность «русского бунта», бессмысленного и беспощадного. Традиция, даже искусственная, даже воскрешенная, быстро переходит в автономное существование, и тем опасна, что она не так проста, как коррупционные схемы, и не так ясна, как партийная принадлежность.
Никто не собирается отрицать того факта, что едва ли не любому сообществу свойственны некие нормы и правила коллективного поведения — проблема лишь в том, что для их действия и воспроизводства не требуется, как правило, священное камлание с шаманскими заклинаниями и воплями «традиция, приди!». Когда же без заклинаний и повторений одних и тех же формулировок не обходится даже самый рутинный процесс, когда «традиция» становится даже не целью, а замкнутой и не нуждающейся ни в какой аргументации «вещью-в-себе», последствия вполне естественно выходят непредсказуемыми. Десятилетие назад нас удивляло поведение профессора Добренькова, обвинявшего собственных студентов в причастности к «пятой колонне» и «оранжевой заразе», а сегодня число подобных прецедентов настолько возросло, что они уже не похожи на прецеденты – скорее уж на правило.
Потому «традиции и обычаи горских народов», использующиеся для критики действий Рамазана Джалалдинова в худших советских традициях (с челобитными, товарищескими судами и пр.), — это не оксюморон и не нонсенс, а прямое следствие того спускового крючка, который однажды дернули в погоне за рейтингом. Традиция, так сказать, сорвалась с резьбы, и по всей стране поползли химеры, к которым обращаются ради доброго гешефта.
Кирилл Телин
