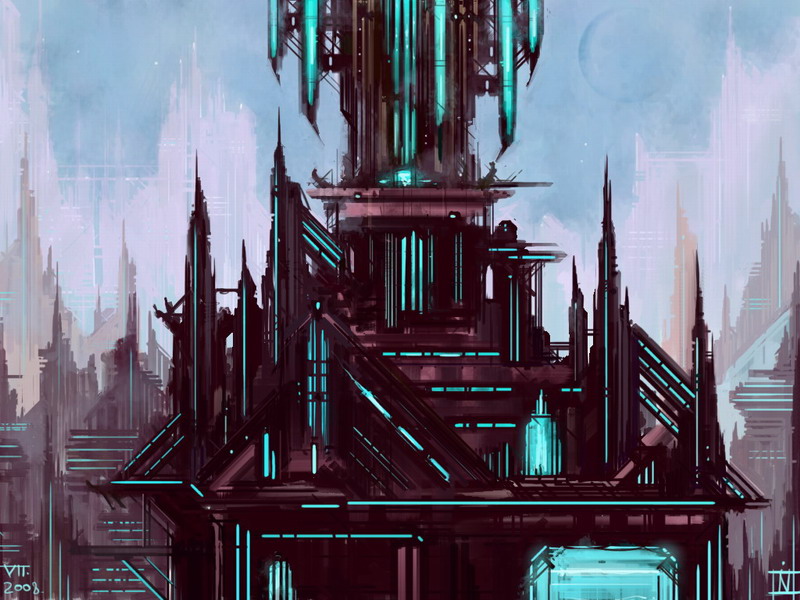20 февраля 2010 года мир отметит одну незаметную годовщину: конец первого года второго столетия существования футуризма — его присутствия в составе европейского воздуха, в структуре европейских смыслов.
Эта дата в своем роде даже примечательнее, чем столетие самой идеи движения, торжественно отмечавшееся историками, искусствоведами и культурологами год назад. 20 февраля 1909 года, как известно, итальянский писатель и поэт Филиппо Томмазо Маринетти опубликовал в парижской газете «Фигаро» текст под названием «Манифест футуризма». Кстати, спустя всего две недели — 8 марта — фрагменты из него были опубликованы в русском переводе в петербургской газете «Вечер».
В том самом 1909-м, столетие которого праздновалось в прошлом году, футуризм был едва заявлен. Лихорадка манифестов, опережающих художественную практику и намеренных ее всецело определять, началась как раз в 1910-м.Только тогда футуристический бунт против правил и «всего» устоявшегося начал набирать силу — активно вырабатывать правила того, как следует о себе заявлять (что заявлять следует, и как можно громче, в этом изначально не было сомнений) и что — заявивши — следует делать дальше. С каждым шагом, что характерно, они делались все более устоявшимися.
Спустя почти год после манифеста Маринетти — 11 февраля 1910-го — появился «Манифест художников-футуристов». 11 апреля — «Технический манифест футуристической живописи», подписанный Умберто Боччони, Джакомо Балла, Карло Карра, Луиджи Руссоло, Джино Северини.
Дальше — больше. 11 апреля 1912 года Боччони выпустил «Технический манифест футуристской скульптуры», 11 мая того же года за ним последовал «Технический манифест футуристской литературы» Маринетти, а в августе 1912-го — «Приложение» к нему. В том же 1912-м Давид Бурлюк, Алексей Крученых, Владимир Маяковский и Велимир, тогда еще Виктор, Хлебников влепили звонкую русскую «Пощечину общественному вкусу». В 1913-м художественная группа Михаила Ларионова опубликовала собственный манифест «Лучисты и будущники», а Крученых с Хлебниковым — манифест «Слово как таковое». Крученых дополнил его «Декларацией слова как такового», художник Николай Кульбин провозгласил «Новый цикл слова», а Велимир Хлебников — тоже манифестом — обратил внимание современников на «Букву как таковую». В том же году, 11 мая, Маринетти, опять-таки манифестом, призвал соратников к «Уничтожению синтаксиса», «беспроволочному воображению и словам на свободе». В 1913-м же появился манифест футуристской музыки «Искусство шумов» Луиджи Руссоло. 18 марта 1914-го Маринетти призвал к формированию новой чувственности, прославив очередным манифестом «Геометрическое и механическое великолепие и числовое восприятие». Этим он был намерен поставить точку в выработке свода правил, которым предписывалось следовать искусству. Правда, за пару недель до Первой мировой, 11 июля 1914 года, Антонио Сант’Элиа еще успел провозгласить «Футуристскую архитектуру».
Потом стало уже не до манифестов. То есть футуристическая работа еще продолжалась: в том же 1914 году Николай Бурлюк с братом Давидом сформулировали новые «Поэтические начала», в 1915-м Фортунато Деперо и Джакомо Балла1 издали «Манифест футуристического переустройства мира», в 1916-м Хлебников, Мария Синякова, Божидар, Григорий Петников и Николай Асеев протрубили в «Трубу марсиан», призывая к обновлению чувства времени и истории. Еще в 1921 году, уже в совсем другой исторической ситуации, Алексей Крученых составил «Декларацию заумного языка». У итальянского футуризма впереди был еще «второй этап», небезуспешные (в отличие от политических претензий русских футуристов) попытки найти общий язык с фашистами, «Манифест механического искусства» 1922 года, изобретение (и провозглашение отдельным манифестом в 1929-м) аэроживописи, влияние на пластические искусства в Италии на протяжении нескольких десятилетий. У итальянского футуризма и по сей день есть последователи, которые выставляются на региональных, национальных и даже международных выставках: Венецианской Биеннале, Миланской Триеннале, Римской Квадриеннале. Но золотое время футуризма было уже безвозвратно позади. Как общекультурная лихорадка и уверенная претензия на преобразование самого мироздания он как-то неожиданно, непредвиденно быстро кончился.
Футуризм неспроста выражался, как пишет один его современный исследователь, «в первую очередь в поэзии и поведении»2. Поэзия и поведение тут оказывались двумя равноправными началами, двумя суверенными способами воздействия на все окружающее, в значении которых эстетическое не просто неотделимо от этического — оно ему подчиняется. Оно — всего лишь разновидность этического, зато привилегированная. Если, конечно, соответствует поставленным задачам.
В некотором смысле, конечно, можно сказать, что футуризм был проектом преодоления искусства. Правда, искусства в его наличном, исторически данном состоянии. Чаемый выход за его пределы был программой именно художественной. В основе футуризма лежало стремление создать не что-нибудь, а именно «сверхискусство, способное преобразить мир»3. Преображение мира мыслилось именно и только художественными средствами — пусть даже после того, как над самим художеством проведена некоторая преображающая работа. С включением в него таких областей, которые прежде туда не включались и не казались пригодными для этого.
Футуризм — без сомнения (обще)культурный проект, заведомо и с самого начала превосходящий все частные проекты: литературный, музыкальный, архитектурный… Он таков уже хотя бы потому, что отвечал на вопрос (не дожидаясь, пока этот вопрос ему зададут! — он сам его ставил), что следует делать с миром, как себя следует в нем вести. В этом смысле футуризм, несомненно, был предприятием в первую очередь этическим и ценностным, а уж затем и вследствие того — эстетическим. Зацитированный в пух и прах «гоночный автомобиль, «несущийся как шрапнель», потому и представлялся им «прекраснее Ники Самофракийской», что он соответствовал — воспринимался как соответствующий — «правильным», «нужным» ценностям, — потому что легче поддавался интерпретации в свете таких ценностей. А Ника Самофракийская почему-то сопротивлялась.
Он был прежде всего идеологией, программой, совокупностью вполне априорных принципов. Художественная (и прочая) практика тут оказывалась скорее вторичной — но лишь благодаря этому футуризм получил возможность вторгаться в любую область художественной деятельности. Эти принципы готовы были формировать — и изо всех сил формировали — любой материал.
И это потому, что футуризм намерен был работать прежде всего с человеком — и только ради этого с искусствами. Формировать человека он собирался на всех уровнях, включая и такой традиционно «низкий», как быт — то есть на этом уровне даже в первую очередь.
Поэтому разрушение традиционного, устоявшегося быта обывателей входило в программу футуристов непременной частью. Нельзя даже сказать, что оно образовывало ее низший этаж: то была попросту всепронизывающая конструкция.
«Крепкозадый буржуазно-мещанский быт, — писал поэт-футурист Сергей Третьяков, — в который искусство прошлое и современное (символизм) входили, как прочные части, образующие устойчивый вкус безмятежного и беспечального, обеспеченного жития, — был основной твердыней, от которой оттолкнулся футуризм и на которую он обрушился. Удар по эстетическому вкусу был лишь деталью общего намечавшегося удара по быту»4.
А как же: быт — самые структуры жизни, причем такие, которые в силу привычности замечаются менее всего. Чтобы переструктурировать жизнь — надо работать прежде всего с этим.
Что же до искусств, те — по старой доброй традиции, уходящей корнями, по меньшей мере, в романтизм, — представлялись инструментами, наиболее удобными и самыми адекватными для преображающей работы. Здесь, если хорошо вдуматься, не было ничего радикально нового: всего лишь обращение к давним смысловым ресурсам европейской культуры, которыми та пользовалась до тех пор лишь очень ограниченно. Поэтому, хотя футуризм и не собирался ограничиваться искусствами, начал он именно с них.
Вторым важнейшим инструментом этой работы — не менее действенным, чем первый, а по существу глубоко ему родственным (так, как футуристы, пожалуй, никто этого не прочувствовал) — была техника. Люди, полагали футуристы, просто еще не научились ее как следует в этом качестве воспринимать и переживать. Ну, они вообще еще слишком многому, в силу своей косности, не научились. Надо было их учить — в том числе и собственным примером — налаживать им оптику. А для этого — разрушить старые оптики, выбить людей из привычных автоматизмов восприятия, поведения, оценок.
Для этого и были нужны знаменитые футуристические скандалы — составившие, можно сказать, отдельный, самостоятельный — и очень важный — жанр футуристского действия. Тут работали с человеком напрямую. Так, что только кости хрустели.
«Искусство, — от души утрировал Маринетти в манифесте 1909 года, с которого все и началось, — по существу, не может быть ничем иным, кроме как насилием, жестокостью и несправедливостью»5. Все правильно: в художественной практике выходила на первый взгляд именно ее этическая, «прикладная» составляющая — к этому вопросу футуристы подходили еще куда утилитарнее, чем какие-нибудь передвижники. Не хлестнешь человека как следует — он и не пошевелится.
Футуризм как культурное явление был, среди прочего, попыткой ответа на вопрос, на который, кажется, внятного и удовлетворяющего ответа в европейской культуре к началу второго десятилетия ХХ века все еще не было: что делать с хаосом? Как к нему относиться, как с ним уживаться?
«Классически» организованные формы культурного восприятия от хаоса попросту отворачивались, делали вид, что его нет. Или (что, в общем, то же), что он низшая форма существования, особенного внимания недостойная.
Футуризм стал попыткой европейской культуры отдать себе отчет в хаосе как самостоятельной реальности и если и не освоить его — хотя тоже почему бы и нет? — то, во всяком случае, по-новому выстроить отношения с ним. Причем если, скажем, неопримитивисты предприняли попытку освоить хаос «традиционный», природный, то футуристы пошли гораздо дальше их и практически всех своих современников: они взялись использовать собственный, внутренний хаос культуры — от бессознательного, снов, бреда до ошибок и опечаток, а также вообще всяческого — и вольного и невольного — нарушения запретов. Современник футуристов Фрейд тоже, помнится, очень этими материями интересовался — и, пожалуй, в ужасе отшатнулся бы, намекни ему кто-нибудь на его сущностное родство с этими хамами и дикарями. Он-то намеревался все это рационально прояснить и сделать классическое, рациональное «Я» хозяином в собственном доме — планировка которого в принципе не подвергалась сомнению. Футуристы же взяли хаос в оборот с последовательностью, и не снившейся более «устоявшимся» формам культурного восприятия, и сделали его основным условием и главным материалом собственной культурной работы.
При этом хаос, как материю, предельно располагающую к творчеству, предстояло еще заново создать. То есть обнаружить хаотический потенциал того, что привыкло казаться упорядоченным и осмысленным. В этих своих намерениях футуристы признавались вполне открыто, так сказать, программно:
«Мир, — писали Михаил Матюшин и Казимир Малевич в 1913 году, объясняя замысел спектакля «Победа над солнцем», — практической и научной мыслью упорядочен и размежеван между отдельными вещами и предметами. Существуют в сознании людей и определенные, установленные человеческой мыслью связи между ними. Футуристы хотят освободиться от этих связей, мыслимых в нем. Мир они хотят превратить в хаос, установленные ценности разнести на куски и из этих кусков творить новые ценности»6.
На эту задачу — новой хаотизации в целях создания из нее нового космоса — работало стремление к ликвидации (привычно проводимых) границ, составлявшее самую суть футуристического пафоса. При всей своей разнородности, решительно все футуристы были согласны в своих намерениях устранять границы между «дозволенным» и «запретным», «субъектом» и «объектом», «формой» и «бесформенностью», «живым» и «неживым» (что у футуристов было живее техники?), «авторским» искусством и фольклором (так русские футуристы, вообще куда более своих западных соратников-соперников интересовавшиеся архаикой, — Каменский, Крученых, Агеев — стилизовали собственные стихи под русский фольклор), между зрителем художественного события и его участником (любимой идеей футуристов было создание «открытого произведения искусства, которое бы охватывало зрителя со всех сторон»7) и таким образом — между созерцанием и действием8, вообще — между «искусством» как совокупностью условностей и «жизнью» как якобы тем, что все условности превосходит. Не говоря уже о таких банальных различиях, как между разными видами искусств: поэзией, театром, живописью и тем, что сегодня назвали бы перформансом и хэппенингом.
Таким образом, хаос переставал быть неподконтрольным. О такой тотальной рационализации бытия не мечтали, кажется, и самые ортодоксальные рационалисты. Бунтари-футуристы очередной раз пошли дальше прочих по тем самым путям, против которых так, казалось бы, бунтовали.
В свете своих установок они сделали множество лишь на первый взгляд «побочных» открытий — и художественных, и онтологических — и, пожалуй, не сделали бы их, если бы не эти установки, выглядевшие такими экстремистскими, разрушительными.
В этом смысле очень показательно обнаружение ими творческого потенциала случайностей, ошибок, опечаток, неточностей, а с ним — новых, до сих пор не востребованных источников формы и смысла.
С их поэтикой, принципиально ориентированной «на случайное, спонтанное, резко индивидуальное, окказиональное, периферийное, редуцированное, фрагментарное»9, с их вниманием к «процессуальности, вариативности, стохастическим компонентам языка» и «“неравновесным” состояниям психики», футуристы смогли увидеть в этих окраинах и отходах культурной деятельности не мусор и шум, не слепые пятна культуры и даже не просто «зону свободы»10 в навязшем уже как следует в европейских зубах «царстве необходимости», но источник новых смыслов и не освоенных доселе возможностей.
Современная художественная практика без всего этого просто немыслима, но дело даже не в этом: если вдуматься, за этим стоит глубокая интуиция тотальной смыслоносности бытия. В своем доверии к случайному и «даже» ошибочному — независимо от того, насколько глубоко они это продумывали — футуристы снова оказались последовательнее самых классических рационалистов. В мироздании, увиденном и прочувствованном таким образом, не оказывается пустого. В нем нет тупиков: каждый тупик может оказаться далеко уводящей дорогой. Смысл приобретает — или способна приобрести — любая бессмыслица.
Что касается собственно искусства, то в своем отношении к нему футуристы двинулись вовсе не в сторону — как могло показаться — от европейской традиции мировосприятия, а в самую ее глубь: от Аристотеля — к Платону. От аристотелевского мимесиса-подражания реальности — следования за ее внешними формами — к ее платоновскому истоку: идеям, основам, сущности, внутреннему образующему движению.
Органическую принадлежность футуристов к европейской рационалистической традиции выдает и то, что их вообще чрезвычайно привлекало приложение усилий рационального типа к тому, к чему они до тех пор не прикладывались. При этом они готовы были востребовать традиционный инструментарий фундаментальных наук, и не только филологии, но и математики с физикой. Классический пример в этом смысле — старания Велимира Хлебникова, который брался не только выработать для человечества новый универсальный язык, но и рассчитать законы времени.
Вообще, футуристы, должно быть, немало изумились бы, узнав, что они оказались в конечном счете более согласны с духом глубоких, основополагающих традиций европейской культуры и цивилизации, чем самые упертые традиционалисты. Между тем в этом нет не только ничего удивительного, но и ничего парадоксального. Футуризм всего лишь востребовал, ввел в оборот и довел до логических следствий тот смысловой материал‚ который в ней уже был, просто до тех пор не был как следует использован. То, что он и возник и острее всего переживался в странах, как будто «окраинных» по отношению к зрелой, классической, «правильной», вполне состоявшейся (в собственных глазах) Европе, в Италии и России, только способствовало этому: давало необходимый взгляд извне, освобождало от совсем уж безусловной власти тех инерций, которые пора было уже пересмотреть — и вполне освободиться от которых, судя по всему, нереально.
Вместо того, чтобы пересмотреть основные принципы и тенденции европейской культуры, футуризм их подтвердил, даже закрепил. Именно посредством того, что всеми силами постарался их опровергнуть. Перестав быть самим собой, он неотъемлемой — и даже невычленимой с достаточной степенью строгости — составной частью вошел в состав восприятия мира людьми западной культуры.
Он выявил — по крайней мере, обозначил — такие резервы в европейском рационализме, о которых тот — на предыдущем рубеже веков уже очень склонный к самоуспокоению и к любованию своими исторически сложившимися (и исторически ограниченными) формами — и не подозревал. Он нащупал и раздразнил новые точки роста и в европейском реализме, простодушно принимавшем за реальность ее видимые повседневным глазом и осязаемые повседневными чувствами формы. Он поставил и реализм, и рационализм перед задачами роста: нового освоения таких совершенно безбрежных вещей, как разум и реальность, а западную культуру в целом — перед лицом того факта, что постоянный подрыв собственных оснований, преодоление сложившихся привычек восприятия и действия принадлежат к важнейшим условиям ее устойчивости и идентичности. Уже поэтому футуризм в культуре западного мира — сколь бы исчерпанными ни казались его собственные исторически сложившиеся и исторически ограниченные формы — никогда не кончится. И у него обязательно будет — оно уже идет — второе столетие.
1 Совпадение фамилии автора данного текста с фамилией итальянского художника — чистая случайность!
2 Юрков С.Е. Под знаком гротеска: антиповедение в русской культуре (XI — начало ХХ вв.). СПб., 2003. С. 196.
3 http://tmn.fio.ru/works/80x/305/0-3.HTM
4 Цит. по: http://slova.org.ru/n/futurizm/
5 http://m936rea.internet.kemsu.ru/futur.html
6 Цит. по: Юрков С.Е. Указ. соч. С. 189.
7 http://chtotakoe.info/articles/futurizm_841.html
8 «Мы … связываем созерцание с действием и кидаемся в толпу», — писали Михаил Ларионов и Илья Зданевич в манифесте «Почему мы раскрашиваемся» (Русский футуризм. М. 1999. С. 243. Цит. по: Бобринская Е. Футуристический «грим» // Вестник истории, литературы, искусстваю М., 2005, с. 93.
9 http://www.sgu.ru/faculties/philological/kaf/xxvek/personal/prep/ivanyushina/docs/avtoref.doc
10 http://www.sgu.ru/faculties/philological/kaf/xxvek/personal/prep/ivanyushina/docs/avtoref.doc