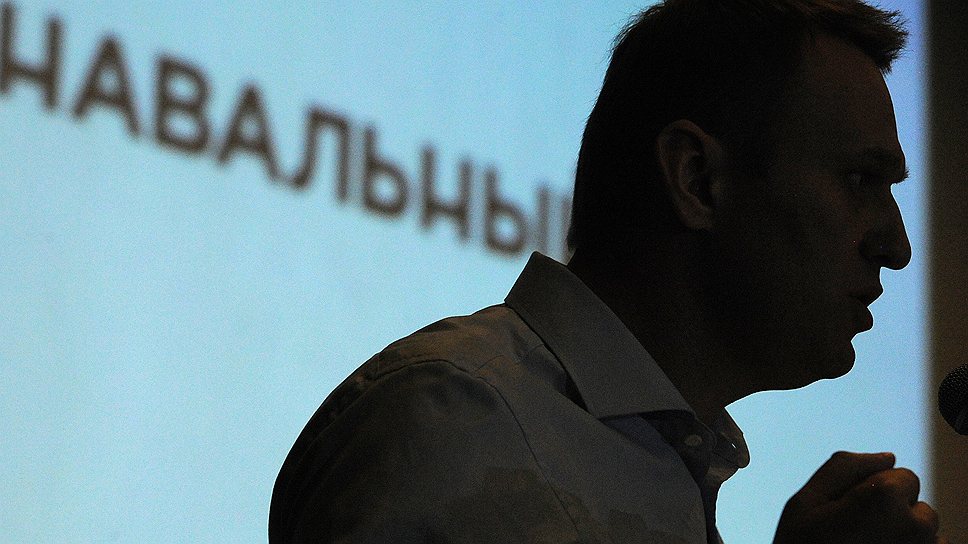Отсутствие программы у оппозиции, кажется, превратилось уже не в обвинение, а в констатацию. Нет программы и нет. Такая вот оппозиция. Может быть, пройдет время и усилиями Координационного совета или отпочкованием каких-то более солидарных между собою мелких фракций что-то вроде программы появятся. Но, так или иначе, существование оппозиции без какого-либо целеполагания – это уже давно зафиксированный феномен. Над ним можно смеяться, можно горевать, можно искать какие-то преимущества. Сложнее, объяснить его чем-то, помимо предположений, что все лидеры оппозиции одинаково бездарны – даже если это так, хотелось бы найти тот полюс, на котором сосредоточились политические таланты – а, главное, увидеть область приложения их усилий. В то, что этот полюс – нынешняя власть – верить не получается (хотя бы потому что иначе десятки тысяч людей не выходили недавно на улицы за вроде бы как очевидными бездарями, но на самом деле каждый сам может представить дополнительные основания для сомнений).
Откуда вообще возникают программы? Если воспользоваться одним старым определением («Большая энциклопедия» Товарищества «Просвещение» и Библиографического института Мейера), то программа это «изложение принципов политической партии или отдельного лица, по которым они ставят себе задачею стремление к известным целям».
Эти самые «принципы» и «стремление к известным целям», во многом то, без чего пока прекрасно удается обходится в России.
И здесь при желании видна определенная последовательность. Можно обратиться к истокам. В конце концов, первой программой преобразований в России, составленных в качестве альтернативы правительству и предполагающей самостоятельное устранение существующих порядков стала программа тайных декабристских обществ.Это был первый признак расхождения между ожиданиями, ценностными установками и амбициями общества – пока еще общества высшего – и собственно, правительства, власти, государя – противопоставления, не существовавшего в прежние эпохи. Считается, что толчком к этому стали события войны 1812 года – то движение, которое сообщила война русскому обществу и государству – собственно, в этом, возможно, заключается наиболее значимое последствие этой войны – нечто, гораздо более существенное, чем все схватки боевые.
То, что декабристов отправили на виселицу и в Сибирь, не означало, что случившаяся история на этом заканчивается. Теперь прежде само собой разумеющееся единство власти и образованного общества приходилось воспроизводить при помощи специально изобретаемых формул «православия-самодержавия…» и разного рода полицейских мер. Развитие образования приводило к тому, что высший класс и образованный класс постепенно становились все менее идентичными понятиями. Соответственно, появлялялись новые цели, у разных общественных слоев появлялись собственные притязания, представления о том, как надо все устроить, в какую сторону и зачем повернуть. Даже то, в чем по прошествии времени можно увидеть романтизм, оторванность от жизни и «низкопоклонство перед Западом» – вполне органично укладывалось в общую работу русской мысли, не казалось натужным и «нарочно выдуманным». О том, к каким итогам подошла эта работа к началу двадцатого века, какое воздействие на нее оказала другая великая война – Первая мировая – мы знаем из собственной истории. Впрочем, при всем фатальном воздействии на идейную жизнь советского отрезка истории, стоит признать, что жизнь эта не прекращалась. Более того, в каком-то смысле именно суровость санкций за самостоятельные политические размышления заставляла немногих желающих четко определяться, что их не устраивает в советской власти и чего они хотят взамен. Кроме того, та или иная скрытая оппозиционность, разная степень осторожного отступления от утвержденных канонов в более-менее вегетерианский период советской истории приветствовалась – хотя бы потому, что эти каноны существовали, а советская система образования также создавала массовый класс образованных людей со своими ожиданиями, аспирациями и постепенно накопляемыми претензиями к режиму.
Можно вспомнить, какой взрыв общественных программ произошел во времена Перестройки, а также то, что стало в 1990-е со многими из тех, кто увлеченно обсуждал эти программы в условных корридорах условных НИИ.
Впрочем, разочарованием в опыте 90х, которым у нас стараются объяснить все, что политически и социально не получается сейчас, для объяснений, почему почти никто из тех, кого не устраивает «здесь и сейчас» не хочет думать о том, что делать дальше, подходит не вполне. В 1990-е – как бы не пытались это доказать – не было ужасов, от которых стынет кровь и останавливается мысль.
Дело, похоже, действительно в другом. Возможно, именно, в том, что разными средствами пытается доказать апологеты власти – что никаких четко сформулированных претензий у оппозиционеров нет – а все это лишь раздражение и эмоции. Ситуация в какой-то степени действительно зеркально противоположна той, от которой начинали свой путь несчастные декабристы. Если все будет идти так, как идет сейчас, усилия последних десятилетий в области образовательной сферы должны медленно, но верно привести к тому, что разница между классом образованным и классом высшим будет постепенно стираться. Немногие востребованные будут устраиваться в государственном аппарате или так или иначе связанным с государством бизнесе, а исключения, по-видимому, отправляться заграницу. Существенной разницы с ситуацией, когда мы поставляли англичанам лес и чугунные чушки с нынешней, когда мы поставляем в новые мастерские мира газ и аллюминиевые чушки, пока тоже не наблюдается. Армия перевооружается, «гром победы раздавайся, веселися храбрый рос», о каких самостоятельных инициативах, каких собственных целях тут можно говорить. В этом смысле «рассерженные горожане», которые, не исключено, выйдут в каком-то количестве вновь на московские улицы – это не признаки усложнения общества, появления в нем новых сил, а, наоборот, последние, пока еще требующие полицейского противодействия и бутафорских контрдемонстраций полуистерические реакции на его окончательное упрощение, неумолимое возвращение к исходной точке – той, где нет и незачем проводить общественные дискуссии, а власть и образованное общество (которое можно не называть интеллигенцией) едины, потому что больше ничего нет и некуда деться. Это та точка, от которой история России начала свое движение в 1812 году. Через 200 лет мы считай, что и не воевали. Ведение же идеологических дискуссий начинает неуловимо напоминать исторические реконструкции на Бородинском поле.