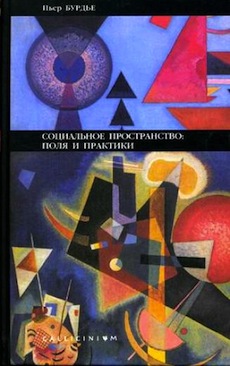 Бурдье П. Социальное пространство: Поля и практики. СПб.: Алетейя, 2008.
Бурдье П. Социальное пространство: Поля и практики. СПб.: Алетейя, 2008.
«То, что обычно считается инструментами познания, я сделал для себя объектом исследования», – эта знаменитая фраза Пьера Бурдье точно передает смысл его научной деятельности. Сначала во Франции, а потом и во всей остальной Европе Бурдье еще при жизни причислили к классикам в области «социологии знания» и «социологии власти». Научную работу классик упрямо сочетал с активизмом, и его часто видели не только на университетской кафедре, но и в несущей красные флаги шумной толпе, которая требует справедливости.
Сделать себе имя в академических кругах и за их пределами – это совершенно разные вещи. Ученые считают важнейшей заслугой Бурдье и его учеников смещение взгляда. Удалось перенести интерес с самих сил, составляющих общество, к отношениям, возникающим между этими силами в данной конкретной ситуации. Но более широкую известность за пределами аудиторий Бурдье принесла критика различных медиа и, в частности, элегантные разгромы французских соцопросов. Он всерьез спрашивал себя и читателя: все ли могут иметь мнение? Ведь для возникновения мнений требуется немало условий, и неплохо бы установить, каких именно. Не задает ли сама формулировка вопроса заранее ожидаемые ответы? Одинаково ли используют разные группы опрашиваемых одни и те же понятия? И если используют по-разному, кто несет за это ответственность и кому это выгодно?
Больше всего ученого волновало, откуда общество берет свои важнейшие категории и ценности и по каким правилам они меняются? «Социальное пространство» открывается статьями о фундаментальных и исторических вопросах, затем нарастают конкретика и актуальность.
Учитывая опыт сразу трех главных школ своей науки (Дюркгейм, Вебер, Маркс), Бурдье начинает с рассмотрения религии. С одной стороны, религия – это язык, на котором до поры до времени можно рассказывать обо всем. С другой – это особый институт для превращения обычных отношений в сверхъестественные. Исследуя возникновение единобожия в Египте и Палестине, социолог ставит вопрос о роли жрецов и об их участии во власти. Фигуры «пророка» и «колдуна» – древняя альтернатива жрецам. Раскритиковав колдуна как недобросовестного конкурента, Бурдье объявляет опыт пророков важным источником более поздней, отделившейся от церкви, культуры, затребованной обществом в тот момент, когда язык религии перестал отвечать новым социальным запросам. Пророк для Бурдье есть тот, кто схватывает смысл любой «чрезвычайной ситуации». Чрезвычайная ситуация» позволяет пророку объяснить прошлое и предложить антикризисный рецепт будущего, лежащий за пределами системных решений.
От религии автор переходит к анализу разных правовых систем. Его интересует, как конкурирующие цивилизации дозируют «законное» насилие и исключают из общества «лишних» людей. Оставив язык права и обратившись к языку экономики, Бурдье обнаруживает, что научного и глубокого определения «рынка» самими апологетами этого рынка до сих пор не дано. Дальше он рассматривает само понятие «рынок» как удобный для элит идеологический миф, означающий на разных территориях и в разное время слишком разные вещи. У этих моделей не так уж много похожего. Один общий признак, впрочем, найден: все, кто, по правилам игры, считают себя манипуляторами и игроками «рынка», всегда являются манипулируемыми фигурками на доске. То есть личная иллюзия собственной власти над ситуацией является не курьезом, но непременным условием воспроизводства общей большой иллюзии «рыночных отношений».
Перейдя в область современного искусства, Бурдье приходит к интересному выводу. Законы обмена ценностями среди художников напоминают ему отнюдь не биржу. Они ближе к странной логике дарения обязательных подарков, принятой у аборигенов. Таким образом, «художественный рынок» сохраняет многие архаические черты древних экономик и является привлекательным местом для тех романтиков, которые ищут альтернативы капитализму в давно и хорошо забытых сценариях обмена, принятых у малых групп аборигенов. Главной проблемой и, одновременно, двигателем современной культуры Бурдье называл вечную войну между уже сложившимся спросом и попытками создать нечто новое. То есть напряжение между инновацией и обслуживанием банальных ожиданий.
Социолог должен быть не только увлекателен, но и убедителен – и потому любое утверждение Бурдье наглядно подкреплено фактами. Карту парижских театров сменяют рейтинги ведущих газет, списки бестселлеров, сводки с рынков недвижимости или современного искусства. Автор «Социального пространства» постоянно подчеркивает связь с ситуацией, особенно в заключительных разделах книги, где уточняется аргументация феминисток, критикуются спекуляции вокруг биологической разницы полов, а также объясняется тонкое различие между «проклятыми» поэтами и просто «не состоявшимися».
Кстати, студенты социологического факультета МГУ, громко выступавшие в прошлом году против руководства факультета, в своих требованиях отдельно отмечали, что изучение таких авторов, как Пьер Бурдье, и использование его исследовательских методик на факультете категорически не приветствуется и противоречит культивируемой там атмосфере «духовности», «национальной особости» и откровенного клерикализма.
Пьера Бурдье остро волновала судьба интеллектуала, которого он чаще называл «агентом». Его «агент» попадает в опасные ножницы между буржуазным меньшинством и остальным обществом. Это общество также разделено на группы, создающие разные модели спроса на знание. «Агент», «поле», «группа» и «ситуация» связаны у Бурдье почти детективными отношениями. Изучая их, ученый, особенно социолог, вряд ли может остаться нейтральным и бесстрастным. Сама «нейтральность» для Бурдье есть примитивная форма ангажированности, а «автономия ученого» скрывает подозрительный компромисс, мешающий анализу. Поэтому сборник и завершают тексты, говорящие о необходимости перевести научный анализ общества и его культуры в поле реальной политики. Пьер Бурдье не видел другого способа покончить с опасным мифотворчеством, всегда маскирующим волю корыстных и невежественных элит.
Алексей Цветков
