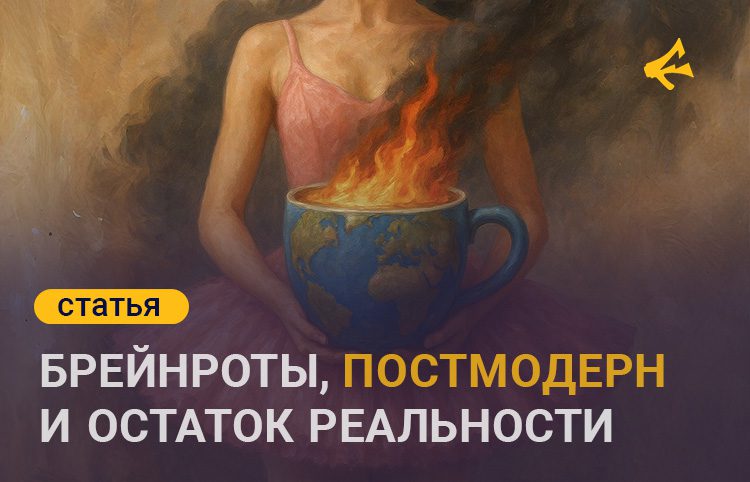
Брейнроты, постмодерн и остаток реальности
На бусти Рабкора меня зацепило название июньского стрима: «Брейнроты и кинокультура постмодерна». Не имея там подписки и возможности посмотреть видео, я берусь за клавиатуру и личный писательский эксперимент. Но пусть это не обманывает: у Рабкора есть настоящая и правильная версия, и она ждёт вас на бусти, велкам. А эта попытка ‒ как ООСный фанфик с почти претензией на философию.
Начну с того, что слово «брейнрот» как-то незаметно вошло в наш язык и давно кажется привычным. Сначала так называли бессмысленные ролики, которые прокручиваются на телефоне сами собой, потом – абсурдные картинки с перекроенными животными, потом – любые мемы, где смысл не просто отсутствует, а как бы сознательно отталкивается прочь. И получилось, что «гниение мозга» стало новой формой развлечения, хотя, возможно, правильнее сказать ‒ формой существования в медиа-пространстве.
Брейнрот (как и его младший брат – ИИ-слоп) засасывает внимание, но не трансформирует опыт, не создаёт значения, не отражает реальность и становится буквальной метафорой деструктивного влияния шуточного/абсурдного/бессмысленного цифрового контента на внимание и критическое мышление человека.
Тут важно подчеркнуть, что раньше подобные явления описывали как деградацию, тупость или детский юмор, но в настоящее время это звучит слишком старомодно. Потому что современный брейнрот не претендует быть «ниже» или «хуже»; напротив, он беззастенчиво демонстрирует собственное отсутствие смысла как достоинство. «Ничего не значит» ‒ это и есть новое содержание, и этим он воплощает дух культуры постмодерна, где ни одна серьёзная декларация не может прозвучать без кавычек, где каждый жест ‒ не просто жест, но ещё и отсылка к самому себе.
Ирония в том, что брейнроты, как и многое в медиа-мире, быстро обросли сообществами. Если вы знаете, что такое Балерина Капучино или чем отличается Бомбардиро Крокодило от Бомбомбини Гусини, вы уже внутри клана; а если не знаете, то остались за дверью. И объяснять вам не станут, потому что объяснение уничтожает саму прелесть мемности. То есть брейнрот, притворяясь общедоступным, одновременно оказывается закрытым языком, понятным только своим. И в этом он сродни университетской лекции, где вроде бы всё адресовано всем, но на деле формируется собственная среда: в ней лексика служит маркером принадлежности, а понимание ‒ мерой элитарности. В такой социальной практике брейнроты выполняют функцию «смазки» коммуникации. По Луману, современное общество функционирует благодаря сокращению сложности, так что можно рассматривать брейнрот как такой редуктивный код, позволяющий вступить в общение без излишних усилий. Хотя цена этой простоты ‒ поверхностность: вместо разговора о содержании мы обмениваемся «сигналами принадлежности», где важно не что сказано, а то ‒ что это «понято» в режиме мгновенного распознавания.
Брейнроты можно перелистывать, цитировать, обсуждать ‒ им всё равно. Они не требуют ни веры, ни недоверия, они просто присутствуют, как цифровой шум, воздействуя на внимание и чувства, но не обещая ничего взамен и не спрашивая разрешения, подчас создавая ощущение, что мир немножко сместился, даже если ты этого не заметил. Можно делать вид, что их нет, но они всё равно продолжают быть. Как знак ‒ чистый симулякр в бодрийяровском смысле, который не ждёт ответа, и поэтому с ним невозможно о чём-либо договориться. Как чистая форма без обязательства к содержанию – и поэтому с ней невозможно конструктивное взаимодействие.
Структурно брейнроты не обращены к субъекту, не организованы вокруг него, однако своим присутствием поддерживают и формируют тот фон, на котором весь остальной опыт обретается и одновременно распадается, создавая эффект, что никакой «целостной» реальности больше нет, а каждый момент ‒ фрагмент, который пытается самоорганизоваться, но постоянно рассеивается в цифровом потоке. И как тут не вспомнить массу последователей разного рода инфогуру и прочих авторитетов разной степени сомнительности, знающих ответы на все вопросы и обещающих доступ к «целостной» реальности, которую информационный поток постоянно сам и разрушает. А кому подписка на «целостный мир», к сожалению или счастью, не доступна ‒ придётся обходиться своими мозгами и самому разбираться в процессах их гниения. И если снова обратиться к анализу постмодерна, который когда-то отверг «большие нарративы» (идеи прогресса, исторической необходимости, единой истины) и культура которого существует в режиме иронии, фрагментарности, пародии, игры и цитирования, где любое произведение оказывается отсылкой к другому, а смысл ‒ бесконечно откладывается. То не удивительно и печально-иронично (в духе «Идиократии»), что инфогуру, несмотря на свою абсурдность и медийную спектакулярность их авторитета, превратились в почти единственных проводников к «реальности», где ещё содержится хоть какой-то смысл, посредством обещания целостного знания и упорядоченного мира. И чем многочисленнее аудитория этих инфогуру, тем очевиднее, что у современного субъекта сохраняется фундаментальная потребность в когнитивной и экзистенциальной опоре ‒ в ощущении, что мир организован, а события и действия имеют значение/смысл. Почему-то здесь вспоминаются Стругацкие, но как будто точная цитата затерялась где то между пожелтевшими страницами старых изданий Детской литературы.
К слову, сама история термина «мозговая гниль» (brain rot) напоминает метафору распада: от серьёзного симптома упадка культуры до мемного самоописания. В XIX веке Генри Дэвид Торо, американский философ и эссеист, использует образ «гниения мозга» как социальный диагноз: он сравнивает снижение умственных и интеллектуальных стандартов общества с «картофельной болезнью» культуры. В наше время brain rot сначала применялся к «пустым» медиаформатам — реалити-шоу, тупым играм, бесконечным тусовкам в сети, — а под конец стал самопародией: теперь пользователи соцсетей сами называют свои привычки «гниением мозга». Это уже не столько критика, сколько признание собственной встроенности в цифровой поток, где «гниль» становится ещё одним способом существования. И на этом этапе юмор как будто перестаёт быть развлечением: в нашем обществе, перенасыщенном информацией, когда серьёзность утратила убедительность, именно такого рода абсурд становится способом высказывания.
В этом плане интересно рассматривать брейнрот как карманный дадаизм, доступный всем. В 1920-е нужно было ехать в Цюрих и слушать, как поэт декламирует абракадабру, а теперь подобное прилетает прямо в телефон автоматически: открыл ленту ‒ и получил очередную комбинацию зверушки, итальянского окончания и бессмысленного текста. Если раньше авангардный художник ломал форму и смысл ради протеста, то теперь миллионы пользователей повторяют ритуал разрушения ежедневно и ежеминутно. Если Бодрийяр или Деррида строили сложные теории о симулякре и бесконечной отсылке, то сегодня миллионы людей интуитивно воспроизводят эти идеи, создавая и пересылая мемы с Тралалеро Тралала. И разница здесь — в масштабе и скорости, а главное — в том, что раньше это было «искусством» и «философией», а теперь это «массовый контент». И когда в следующий раз вы встретите брейнрот, вспомните: именно так выглядели первые опыты любого авангарда — смешно, нелепо, бессмысленно. А потом прошло время, и оказалось, что это единственный язык, на котором эпоха готова с собой разговаривать.
Поэтому стоит рассматривать «гниение мозга» в первую очередь не как угрозу, а как симптом: он фиксирует усталость от «больших идей и глубоких смыслов», которая стала лозунгом постмодерна. Нам больше не нужны ни герои, ни возвышенные сюжеты, ни идеалы. Серьёзное вызывает подозрение: вдруг за ним скрывается ложь? Мы предпочитаем глупую, нарочито неуклюжую шутку, которая не намерена быть ничем, кроме самой себя. Брейнрот безопасен именно потому, что в нём заведомо нечего скрывать. Мы перестали искать в культуре единую истину, перестали верить в её святые обещания — и получили культуру, которая ищет формы рекурсивной игры и смеётся над собственной бессмысленностью. Мы научились смеяться над самой пустотой. В этом смехе — и отчуждение, и усталость, и некоторая радость, потому что, оказывается, жить можно и без глубоких смыслов, на одних только шуточках. В режиме постмодерна: смешное без смешного, серьёзное без серьёзного, жизнь без… закончите сами.
Есть ещё такой социальный ракурс: когда человек день за днём бежит в колесе результативности и KPI, брейнрот становится его маленьким протестом. «Я могу позволить себе потратить внимание на мем, который не имеет никакого смысла, и тем самым ненадолго освободиться от диктата OKR». Безделье начинает выполнять функцию внутреннего сопротивления. Кстати, в том же ключе можно рассматривать прокрастинацию, выгорание или «помолодевший» кризис среднего возраста: помимо всего прочего, они тоже становятся определёнными формами скрытого отказа от капиталистической логики бесконечно возрастающей продуктивности. Тут нельзя не отметить, что в последнее время громче стали дискуссии о сокращении рабочей недели, а пробные проекты в разных странах показывают: уменьшение времени труда без потери зарплат снижает стресс и усталость, повышает мотивацию — и экономика от этого не теряет, а чаще даже выигрывает.
Конечно, всё это не так уж безобидно. И чем дольше общество смотрит в цифровую бездну, тем очевиднее чудовища, ею порождаемые. То, что раньше принадлежало сфере сакральных ценностей ‒ политика (общественные идеалы, долг), культура (художественные и интеллектуальные традиции) и этика (системы моральных норм) ‒ оказывается выброшенным в пространство тотальной шутки, свободного обращения всего со всем. Это снимает любую дистанцию между серьёзным и несерьёзным, но вместе с тем лишает субъекта возможности найти точку опоры для утверждения себя в каком-то «большом дискурсе», прокладывающем дорогу в будущее человечества. Или хотя бы в надежде на то, что это будущее когда-нибудь наступит. Мне кажется, что, если бы Марк Фишер остался жив и успел завершить свой «Кислотный коммунизм», там наверняка была бы глава о том, как гигантские жернова маркетинговых алгоритмов перемололи не только наши мозги в гнилую кашу, но и саму идею гниения ‒ как возможности послужить перегноем для произрастания чего-то принципиально иного. Общество больше не способно представить себе иной мир и его будущее застряло в повторяющейся симуляции настоящего. Потому что не только любая появляющаяся контркультура, но даже брейнрот, поглощаются машиной капитализма и становятся частью воронки продаж, лишая нас способности к желанию прорываться за пределы алгоритмической матрицы, к другой организации опыта жизни общества. Такой прорыв и есть практика свободы, понимаемой не как произвольный выбор внутри заданных координат, а как разрыв с самими координатами, и в этом разрыве ‒ возникает возможность нового мира.
Под конец невозможно не коснуться того, как глобальное общество переживает последние военные годы. По факту события колоссальны, историчны, необратимы, но их восприятие в повседневности обывателя сводится к фону или атмосфере, которую можно впустить в себя, а можно скипнуть, как поздравительные рассылки в рабочих чатах. По факту где-то за пределами экранов есть другая реальность ‒ та, в которой люди действительно умирают. Пока в лентах соцсетей бесконечно проигрываются мемы, обрывки стримов и брейнроты, кто-то в соседнем доме хоронит сына. Пока активные пользователи спорят о том, является ли очередной сериал вершиной постиронии или очередной кассовой бомбой ради продвижения повесточки, реальные бомбы разрушают дома, и смерть становится не метафорой, а событием, от которого нельзя отписаться. Медиа непрерывно воспроизводят насилие как видеоряд, как контент, как кликбейт; но, когда убийства происходят в действительности, смысловая пустота оказывается единственным фоном и оттого ‒ ещё более непереносимой.
Официальный язык твердит ритуальные формулы, которые призваны объяснять происходящее, но они оседают на поверхности, не превращаясь в подлинные опыт или смыслы, на которых можно строить будущее. Потоки пропаганды с разных сторон звучат как мантры, которые обыватель одновременно и слышит ‒ и не слышит, и живет с ними ‒ и отстраняется от них, пребывая в двойственном положении; и, хотя мантры те повторяют все вокруг ‒ в то же время никто не верит в них до конца, оставляя слоты для загрузки новых альтернативных версий. Получается странный парадокс: общество живёт в состоянии, когда реальность происходит, но не проживается, не рефлексируется. Как сон наяву, пробуждение от которого возможно лишь через определение того, что действительно имеет смысл ‒ но именно это в логике постмодерна невозможно. Тем не менее за границами этого сна есть конкретные жизни, конкретные смерти, конкретные тела. И этот сон не иллюзия, а именно структура, в которой мы все существуем: нет такой позиции, где можно «осознать» больше, чем системно предусмотрено для восприятия. Здесь нет места «новому субъекту».
Несоразмерность между пустотной культурой «гниения мозга» и предельной реальностью гниения материи фиксирует страшное состояние современности, когда симулякр продолжается на экране, а смерть ‒ в сырой земле. На самом деле эта мысль изначально содержала в себе метафору со словами «экран оказывается переполнен симулякрами», и вряд ли кому-то нужно сегодня объяснять, как заканчивалась эта аналогия. И вот здесь, по идее, постмодерн должен достигать своего предела, если вспомнить Лакана: реальность всегда оставляет за собой то, что невозможно включить в знаковые конструкции ‒ остаток, который не поддаётся никакой репрезентации. Однако медиа-механика не терпит «сбоя», а просто продолжает существовать рядом с самой предельной формой действительности ‒ смерть остается фактом; а экран не гаснет и продолжает показывать, что всё возникает и существует как единое поле опыта, внутри которого мы все застряли. И никакой точки выхода из него пока нет.
Автор: Джейн-до
