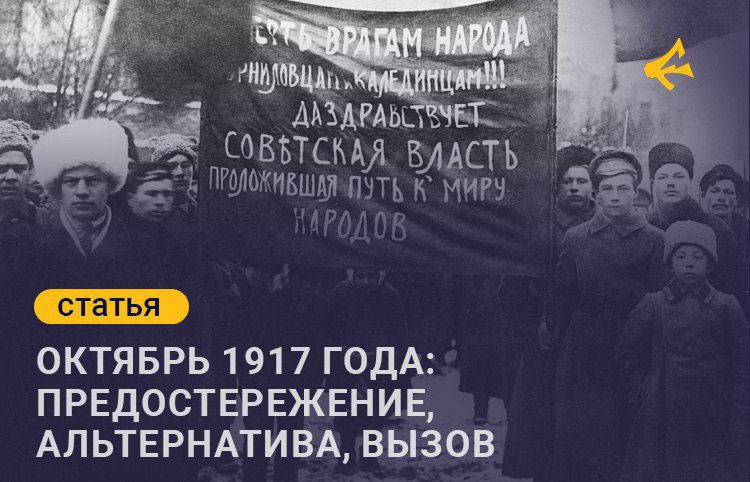
Октябрь 1917 года: предостережение, альтернатива, вызов
Память и современные интерпретации Октября
Каждая годовщина Октябрьской революции 1917 года в России (7 ноября по новому стилю) даёт повод задуматься о глобальном значении этого исторического события. Для одних — это возможность осудить «ужасы коммунистической диктатуры», для других — напомнить о первой серьёзной попытке заменить капиталистический строй чем-то иным, насколько бы противоречивой, кровавой и, в конечном счёте, поражённой ни была эта попытка.
В сегодняшних дискуссиях Октябрь чаще всего фигурирует либо как моральное предостережение, либо как идеологический фантом: либо как доказательство того, что «всякое отклонение от рынка ведёт в ГУЛАГ», либо как романтический миф о штурме Зимнего дворца и рабочих, «берущих историю в свои руки». В обоих случаях уходит с горизонта то, что было очевидно самим участникам революции: она была ответом на конкретный комплекс глобальных проблем — империалистическую войну, крайнее социальное неравенство, отсталость периферии европейского капитализма, — а не капризом небольшой группы фанатиков.
С дистанции более чем столетия Октябрьскую революцию можно читать в равной мере как симптом кризиса мировой системы и как проект её трансформации. Она открыла целый ряд вопросов, остающихся нерешёнными и сегодня: возможно ли «догнать» развитый капиталистический центр в сжатые сроки за счёт плановой мобилизации ресурсов; может ли рабочий класс действительно править или неизбежно заменяется новой бюрократической элитой; возможна ли частичная эмансипация от внешней зависимости без создания внутреннего механизма репрессий. То, как мы отвечаем на эти вопросы, определяет не только наше отношение к прошлому, но и границы политически мыслимого в настоящем.
Октябрьская революция стала продолжением Февральской революции 1917 года, которая свергла самодержавие. Однако, как бы ни ожидалось и ни приветствовалось это демократическое изменение большинством населения и политических сил (включая большевистскую партию Владимира Ленина), само по себе падение монархии не могло решить серьёзные политические и экономические проблемы, стоявшие перед Россией. Правительство «министров-капиталистов» продолжило ту же политику, лишь упакованную в новую демократическую обёртку: война продолжалась, земля не возвращалась крестьянам, рабочие не получили реального контроля над производством, а периферийное положение России в мировой экономике оставалось неизменным.
В этом смысле Октябрь был не прихотью радикального меньшинства, которое «уничтожило молодую демократию», а выражением разочарования в одной только смене политической формы без изменения социального содержания. Принесённые Февральской революцией демократические свободы — пресса, собрания, партийная жизнь — имели определённое значение, но оказались недостаточными, когда большинство населения по-прежнему оставалось без мира, земли и хлеба. Лишь когда стало ясно, что новая власть не собирается выходить из войны, не способна обеспечить перераспределение земли и не желает затрагивать экономические привилегии элит, открылось пространство для более радикального проекта.
Революция, постсоциалистический опыт и капитализм
Именно здесь параллель с настоящим становится болезненно очевидной. Сегодня во многих странах смена авторитарных режимов либерально-демократическими правительствами нередко заканчивается «Февралём без Октября»: вводится партийный плюрализм, создаются независимые институты, принимаются новые конституции, но базовые структуры экономической власти остаются нетронутыми. Обещания социальной справедливости, уменьшения неравенства и «конца олигархии» оборачиваются косметическими реформами, в то время как старые схемы эксплуатации воспроизводятся уже под знамёнами рынка, ответственности и европейской интеграции.
Октябрьская революция напоминает об одной неудобной истине: политическая демократия без перестройки существующих классовых отношений в экономике имеет весьма ограниченный радиус действия. Это не значит, что большевистский ответ на эту проблему представлял собой универсальную модель или готовый рецепт для настоящего, но опыт 1917 года предостерегает: любая «смена», оставляющая нетронутой логику капиталистического накопления, внешней зависимости и социального неравенства, неизбежно породит новый виток разочарования и радикализации. В этом смысле вопрос, который ставит каждая годовщина Октябрьской революции, заключается не только в том, что мы думаем о большевистском проекте, но и в том, насколько мы сегодня готовы признать, что без более глубокого вмешательства в экономические отношения не может быть подлинной демократии. В постсоциалистическом пространстве мы уже наблюдаем именно такие повторяющиеся циклы восстаний, разочарования и радикализации. От «майданных» революций на Украине, обещавших разрыв с коррупцией и олигархическим контролем, но завершившихся лишь новым перераспределением власти внутри того же класса, до волн массовых протестов в Сербии, где энергия социального недовольства регулярно направляется в борьбу за «нормальное государство», но без серьёзного вмешательства в экономические основания порядка.
Известный российский марксист Борис Кагарлицкий* отмечает в своём анализе нынешней ситуации в Сербии, присланном мне из колонии, что динамика движения и его массовый характер отнюдь не гарантируют содержательных результатов, если фундаментальные основы строя остаются непоколебимыми: при доминировании либеральной идеологии ключевые структурные противоречия, порождающие кризисы, не разрешаются, не делаются даже самые элементарные политические выводы, а демократические победы нередко превращаются в «технические» триумфы, которые быстро сводятся на нет.
Кагарлицкий* утверждает, что для того, чтобы подобные победы стали действительно содержательными, необходима «вторая, более радикальная волна — хотя бы антиолигархическая, если не социалистическая трансформация, — как это видно на примере ряда левых правительств Латинской Америки», которые, несмотря на социальные реформы и определённое перераспределение доходов, так и остались в рамках олигархического порядка и экспортной зависимости. В таких случаях смена элит и политической символики оставляет нетронутыми основные схемы зависимости, приватизацию общественных ресурсов и подчинённость местных капиталистических слоёв глобальному центру.
Октябрьская революция не остановилась на уровне смены политического режима, а попыталась преобразовать сами основы социально-экономического порядка. В этом смысле она вышла за рамки привычных тогда «демократических революций» и открыла беспрецедентный эксперимент: реорганизацию экономики на основе общественной собственности, планового распределения ресурсов и провозглашённой отмены эксплуатации.
Именно поэтому её влияние далеко вышло за пределы России. Октябрьская революция стала точкой отсчёта для всех последующих попыток оспорить «естественность» капитализма: от рабочего движения в Европе и антиколониальных сражений в Азии, Африке и Латинской Америке до движений за государство всеобщего благосостояния в самом ядре мировой системы.
При всех своих многочисленных изъянах социалистическая система, по крайней мере до исчерпания своего развивающего потенциала, смогла обеспечить беспрецедентные темпы роста и структурной трансформации. В межвоенный период и первые послевоенные десятилетия Советский Союз достиг одних из самых высоких темпов индустриального роста в мире, сократив (хотя и не устранив) разрыв с капиталистическим ядром, несмотря на старт с гораздо более низкого уровня и развитие в условиях Великой депрессии и разрушительной войны. По оценкам базы данных Maddison Project, между 1928 и 1939 годами ВВП на душу населения в СССР вырос примерно с 19% до порядка 32% от уровня США.
Одновременно Советский Союз запустил то, что впоследствии получило название «государства всеобщего благосостояния»: универсальная социальная защита и социально-экономические права, такие как право на труд, образование (включая высшее), здравоохранение, пенсию и материальное обеспечение в старости, а также разветвлённые системы оплачиваемых больничных, пособий по беременности и родам, детских учреждений и субсидируемого жилья.
В этом смысле капитализм в значительной степени обязан своей последующей «победой» социализму: именно социалистические эксперименты первыми испытали и масштабировали многие социальные нововведения, которые сейчас воспринимаются как нечто само собой разумеющееся в зрелых капиталистических государствах всеобщего благосостояния, — массовое общественное образование, универсальное здравоохранение, комплексное социальное страхование, оплачиваемый отпуск по беременности и родам и юридически гарантированная защищённость занятости.
Социалистическая социальная политика создала и беспрецедентные каналы вертикальной мобильности. Бесплатное и общедоступное среднее, техническое и высшее образование, вместе с целевыми квотами для рабочих, крестьян и женщин, быстро перевернули старую имперскую ситуацию, когда среди студентов не было ни рабочих, ни крестьянских детей. Уже к концу 1930-х годов более половины студентов вузов происходили из народных слоёв, а женщины в больших масштабах вошли в ряды квалифицированных специалистов, управленцев и представителей властных органов задолго до сопоставимых сдвигов в развитых капиталистических странах.
И всё же часть этих завоеваний до сих пор остаётся недоступной значительным слоям рабочего населения даже в капиталистическом ядре: США, например, остаются единственной страной ОЭСР, где на национальном уровне не гарантирован оплачиваемый отпуск по беременности и родам, а доступ к высшему образованию во многих богатых странах по-прежнему обусловлен высокими платами за обучение и тяжёлой долговой нагрузкой.
Разумеется, история этого эксперимента была далека от линейной и романтической. Уже в первые годы после победы интервенция, разруха, изоляция, гражданская война и социально отсталое окружение создали условия, при которых первоначальные лозунги «мир народам, фабрики рабочим, землю крестьянам» начали превращаться в их бюрократический и авторитарный суррогат. Вместо прямого рабочего контроля утвердилась партийно-государственная иерархия; вместо эмансипации возник новый слой управляющих, представлявший себя как «авангард», действующий от имени тех, кто будто бы осуществлял власть. Однако даже этот процесс перерождения не отменяет того, что отправной точкой была попытка разорвать с логикой капиталистического накопления, а не просто «очеловечить» её или распределить более равномерно.
С сегодняшней точки зрения, в эпоху, когда капитализм глобально преподносится как единственно возможная форма общества («конец истории»), именно этот разрыв делает Октябрьскую революцию невыносимой для господствующих идеологий и одновременно незаменимой для любой серьёзной левой политики. В мире, где циклы либеральной эйфории, разочарования и авторитарного отката постоянно повторяются, наследие Октябрьской революции не является набором готовых рецептов и не может быть оживлено простым «возвращением». Его значение в том, что оно в предельно острой форме ставит вопрос о том, возможно ли организовать экономику и общество на основаниях, отличных от частной прибыли и конкуренции, и какую цену общества платят, когда пытаются это сделать.
То, как мы отвечаем на этот вопрос сегодня, определяет, видим ли мы историю 1917 года как «чуждое отклонение» или как первую, противоречивую, но неизбежную попытку выйти за пределы капиталистического века. Именно поэтому современные идеологии систематически работают над тем, чтобы делегитимировать саму возможность такой альтернативы.
В рамках этого же идеологического ландшафта наследие Октябрьской революции дополнительно вытесняется посредством всё более частых попыток представить коммунизм и фашизм как «две стороны одного и того же тоталитарного зла» — и в этом смысле резолюция Европейского парламента 2019 года является лишь самой заметной символической фиксацией такого подхода.
Формальное сходство состоит в том, что и коммунистический проект, в той форме, в которой он оформился в «реально существующем социализме», и фашизм выстроили авторитарные, репрессивные режимы. Но идеологически они стояли на противоположных полюсах: коммунизм, по крайней мере декларативно, отстаивал братство и единство народов, преодоление национальных и расовых иерархий и универсализм прав человека в классовой перспективе; фашизм опирался на расовую идеологию, культ насилия и открытую нетерпимость как основу политического порядка.
История ХХ века достаточно ясно показывает, что у «демократического» капитализма был подлинный идеологический конфликт только с коммунизмом, тогда как конфликт с фашизмом был прежде всего экономическим и связанным с вопросами безопасности: фашистские державы становились неприемлемыми лишь тогда, когда начинали угрожать балансу интересов внутри самого капиталистического мира, а не потому, что отрицали демократические ценности.
Именно поэтому сегодня мы наблюдаем марши и митинги нацистов и неонацистов, а также мероприятия в память о бывших участниках нацистских формирований (включая части Ваффен-СС), оправдываемые утверждением, что они были «по сути» не фашистами, а борцами против коммунизма, — утверждением, которое фактически воспринимается как почти полная их реабилитация. В 2022 году все государства — члены Европейского союза, вместе с Соединёнными Штатами, Великобританией и их основными союзниками, проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и бывших членов Ваффен-СС.
В то же время в тех самых «демократических» государствах, которые без особого скандала терпимо относятся к коллаборационистам и подчас открыто чествуют пособников фашизма, самые жёсткие репрессивные меры направляются против коммунистов: от арестов и запретов коммунистических партий и символики до ограничений и фактической цензуры в отношении изучения «Капитала» Карла Маркса, через полтора столетия после его первой публикации.
В этом смещении моральных координат значение Октябрьской революции становится двояким: с одной стороны, она остаётся предупреждением об опасностях авторитарной деградации эмансипаторных проектов; с другой — напоминает, что в один исторический момент действительно существовала серьёзная, глобально значимая альтернатива капиталистическому строю, которую невозможно свести к сноске, зажатой между Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини.
Уроки реально существовавшего социализма и судьба социалистической идеи
Коммунизм выражает надежду на то, что возможен справедливый и свободный общественный строй без эксплуатации, с распределением в пользу всех граждан, а не горстки могущественных богачей. Противоречия капитализма, которые анализировал Маркс, от этого никуда не исчезли, так же как не исчезли и ограничения буржуазной демократии, на которые он указывал. Как недавно заметил Янис Варуфакис, «мы живём не в демократиях, а, скорее, под властью олигархий, время от времени прерываемой выборами».
Крах реально существовавшего социализма не привёл к чудесному устранению напряжений капитализма и не заставил систему внезапно работать лучше. Напротив, кризисы, продолжающие сотрясать мировую экономику, лишь усилились после того, как эйфория по поводу предполагаемой «окончательной победы» капитализма и «конца истории» сошла на нет.
Экстремальная власть капитала проявляется повсюду. Согласно Докладу о мировом неравенстве 2022 года, в глобальном масштабе богатейшие 1% населения присвоили примерно 38% всего дополнительного богатства, накопленного с середины 1990-х годов, в то время как на нижнюю половину человечества пришлось лишь около 2%. Сегодня те же верхние 1% владеют большим объёмом богатства, чем нижние 95% вместе взятые. В таком контексте образ «горстки», составляющей всего одного из ста, перестаёт быть метафорой и становится точным описанием того, насколько сконцентрировалась экономическая власть.
Именно поэтому, несмотря на крах реально существовавшего социализма и подъём неолиберального капитализма (а возможно, как раз и благодаря этому), идея социализма не исчезла и продолжает активно обсуждаться — в академической среде, социальных движениях, профсоюзах и даже внутри деформированной социал-демократии, которая периодически пытается восстановить утраченную связь со своими собственными историческими корнями.
Октябрьская революция (и то, что за ней последовало) тем самым не опровергает идею социализма, а предупреждает об условиях, при которых попытка её реализовать может обернуться собственной противоположностью. Она показывает, насколько опасно сочетание отсталости, войны, разрухи, международной изоляции и концентрации политической власти в руках узкого слоя «авангарда», а также насколько рискованно отделять социальную трансформацию от политической демократии, плюрализма и реального участия подчинённых классов в принятии решений.
Ничего из этого не означает, что неудачу реально существовавшего социализма можно свести только к его внутренним деформациям. Важную роль играло и внешнее давление. От интервенции и экономической блокады Антанты в 1918–1920 годах, через разрушительное нападение нацистской Германии в 1941 году и уничтожение трети производственного потенциала страны, до длительной осады времён холодной войны — социализм в советском блоке развивался в условиях почти постоянной чрезвычайной ситуации.
Западные государства вводили далеко идущие ограничения на доступ к технологиям и кредиту: от стратегического контроля за экспортом передового оборудования, электроники и компьютеров до дискриминации в торговле, такой как поправка Джексона–Вэника, а также различные эмбарго и санкционные режимы. Система, которой приходится постоянно готовиться к войне, содержать огромную военную машину и жить в условиях воспринимаемого окружения, почти неизбежно подталкивается к централизации, секретности и репрессиям, даже если она декларирует эмансипаторные цели.
Отсюда возникает контрфактический вопрос, которого буржуазные карикатуры на коммунизм тщательно избегают. И Маркс, и Ленин мыслили коммунизм как глубоко демократический строй, основанный на самоуправлении ассоциированных производителей и постепенном отмирании принудительной государственной власти, а не на всевластной партийно-государственной машине, возвышающейся над обществом.
Ленин неоднократно подчёркивал, что «социализм не может удержать своей победы и довести человечество до времени, когда государство отомрёт, если не будет полностью осуществлена демократия», и что рабочие должны «научиться управлять государством», чтобы управление перестало быть уделом специализированной бюрократической касты.
При отсутствии постоянной внешней угрозы и капиталистической осады мог ли реально существовавший социализм эволюционировать в более демократическом, менее авторитарном направлении? Ничто в коммунистической идее как таковой не предопределяет уродливые формы, которые она приняла в истории; они стали результатом конкретного сочетания внутренних противоречий и внешнего давления, а не логическим следствием устремления к обществу без эксплуатации.
Если в чём-то опыт Октябрьской революции и реально существовавшего социализма задаёт нам задачу, так это в том, чтобы продолжать поиск альтернатив капитализму, ясно сознавая эти пределы и опасности: идея общества без эксплуатации остаётся открытым горизонтом, но теперь её уже нельзя мыслить как проект, осуществляемый через «историческую необходимость» и непогрешимость партии, а скорее как долгий, противоречивый процесс демократической борьбы и самоуправления снизу.
Автор: Дмитрий Пожидаев
*Борис Кагарлицкий внесён в реестр иностранных агентов
