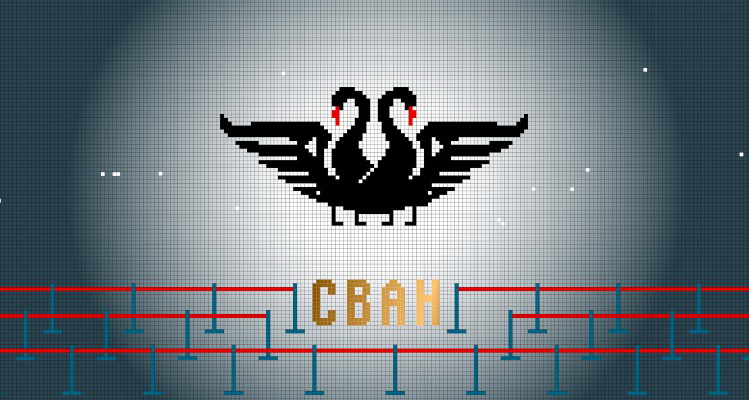Пьесу в стихах Родионова и Троепольской читали еще на «Любимовке» в 2014 году — уже там у зрителя была возможность оценить эту остросоциальную комедию. Правда, больше с той стороны, с которой сами герои оценивают все в «Сване» — с поэтической. Без визуализации, сейчас можно сказать точно, пьеса многое теряла. Актеры мастерской Брусникина же этот пробел восполнили и придали поэзии ощутимую форму, ритм и темп.
Зритель из суровой действительности российских будней попадает в действительность пространства Лебедянии, как бы страны внутри страны — чиновничьего органа, призванного всех претендующих на гражданство сделать поэтами. Все работающие в проекте «Сван», а это исключительно прекрасные девушки, белые лебеди, обязаны сами постоянно говорить стихами и привить эту привычку будущим гражданам, а потому и экзамен на гражданство здесь сдается рифмой. Потому что каждый русский — это поэт, и чтобы соответствовать этому вдохновенному званию, надо получить бумажку, вовсе на гарантирующую поэтичность и одухотворенность, но демонстрирующую натасканность на вопросы экзамена. «Кто была твоя мать?», «где сейчас твой отец?» — специально для подготовки рифмованных ответов на такие вопросы существуют репетиторы, на курсы к которым ходят эмигранты. Один из них, Слава, является, что называется, романтической натурой; угадывается в нем что-то от Лермонтова, и его «милость к павшим», благородная, но не презрительная и жалостливая, а великодушная, напоминает о тех временах, когда о проекте «Сван» никто бы и не задумался. И даже чиновница Клава, то ли бывший инструмент разведки, то ли сотрудник МВД, безжалостно сливающая жизни в отстойные воды «Свана» из-за неподходящего имени, меняется под напором Славиной поэтической бескомпромиссности, пока черствая рифма сводит ее коллег с ума — у чиновниц даже появится диагноз «сошла с ума от поэзии».
А сумасшедшие творят беспредел: не приспособленные душой к поэтической нагрузке, убивают сдающих.
«Стране победившей поэзии не нужен поэт», — декламирует Слава, разочаровываясь в системе. И тут зритель получает доступ к следующему выводу: может быть, каждый русский — поэт, но не каждый поэт русский.
И Слава сам русский только на половину, и это не мешает ему все прекрасно чувствовать и в кругу одичавших псевдо-поэтов, с которыми удобно запивать сплин алкоголем — в их компании добрые три минуты Слава кричит «Пью», — оставаться все тем же романтиком, предложившим любовь в обмен на искреннее вдохновение. И ужасно обидно, но в общем-то неважно, что дальше будет «протокол на поэтическую совместимость», в ходе которого система решит, разрешено поэту и чиновнице быть вместе или нет, что стайка гогочущих лебедей будет решать человеческую судьбу и исход любви — Слава и Клава будут жить моментом, вдохновенным и проходящим, сочинять стихи, пока сочиняется, и оставаться все так же в Лебедянии, но в «Сван» больше не вернутся.
Любопытно, как остросоциальное в спектакле перетекает в культурное. «Каждый русский — поэт», — в этой фразе собрана общенациональная слепота по отношению к другим культурам, и свойственна она далеко не только России-Лебедянии. В «Сване» же эта зашоренность, узость сознания проявляется буквально во всем: эмигрантов с Ближнего Востока учат восточной поэтической мудрости, объясняют им то, что они бы сами могли объяснить, если бы не узость взглядов учителя. Что могут знать те, кто считает, что в родном ауле «фарфоровые стены», что «лучше жить в глухой провинции у моря», нежели в стране лебедей. Их должно превращать из гадких утят в величественных птиц, перекраивать и перестраивать, подавлять и игнорировать. И тут же культура самих лебедей, у которых День Петра и Февронии — национальный праздник, хотя никого подобных двум святым теперь днем с огнем не сыщешь. Элементарное неуважение, лицемерие, презрительное высокомерие — если и лебедь, то черный. Где-то здесь кончается интерес к чужой культуре и начинается копание в своей, и вместо того, чтобы задаваться вопросом «что не так у других?», возможно, стоит поинтересоваться, почему так у тебя.
В «Сване» визуальном же все не про ощутимые смыслы, а про неосязаемую ритмику и пластику: меняющееся пространство, непринужденно подстраивающееся под нужды сцены, затягивает и увлекает, в самом начале заставляя зрителя, проходящего через «таможню» к своим местам, принимать участие, на себе чувствовать, что это такое — находиться там, на пограничье, между серой прозой и возвышенной поэзией; четкие, ритмичные движения актеров выглядят хореографически совершенными, пока барабанщик, расположившийся на желтоватой платформе над сценой, чередует там-тамы, бонго и тарелки, отстукивает и задает темп, заставляющий людей на сцене потом повторять те же самые удары.
Не в этом ли вся поэзия — в пластике слова и неуверенно-игривой непоколебимости ритма? В этом спектакле звук идеально соединяется с движением, и в некоторые моменты рифмованные слова и вовсе кажутся лишними, смысл проигрывает чистой форме вдохновения.
И не угадаешь, что здесь подводит: режиссура, перекрывающая драматургию, или комедия, оказавшаяся недостаточно пронзающей и глубокой для экспрессивной визуализации брусникинцев. Здесь отсутствует гармония целого, зато есть завораживающий конфликт гадкого и прекрасного — как утят и лебедей.
«Сван» — это не та недостижимая страна, к которой только по направлению, а вполне конкретное место, специальный проект, направленный не на слово, а на душу. Есть здесь барышни, под сенью которых можно оказаться в определенный не слишком благосклонный момент жизни, и едят они не печенье «Мадлен», а круассаны, рифмующиеся с отчеством Елены Сановны, и все прочее по списку, убивающее перспективы, возможность и, собственно, само направление. Это место, в котором оказывается, что ты дошел уже до предела; в котором либо сбывается мечта, либо все летит к чертям. Потому что «Сван» — это русская рулетка, то самое место, где «в казенных кабинетах стихи русских женщин вызывают бешенство сразу», где обязательство заменило вдохновение и отравило всякую лирику. Лебедей из гадких утят делают в каком-то другом направлении, а здесь поэзия может убить.