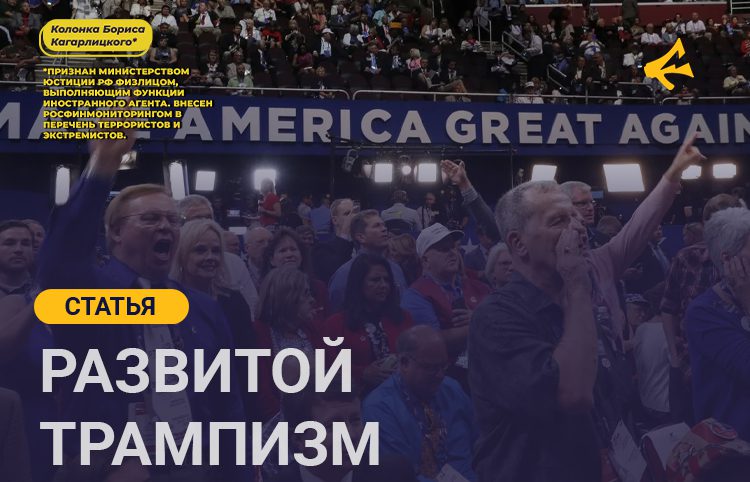
Трампизм
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.
Термин “трампизм” с осени прошлого года уже прочно вошел в лексикон журналистов и политологов. Но всё же надо разобраться в том, что мы имеем в виду, употребляя это слово, что стоит за этим понятием.
Вообще использование персонализированных терминов для описания политического явления может быть не вполне корректным. Например, когда в среде западных левых или советских интеллигентов 1960-х годов говорили о сталинизме, за этим нередко скрывалась неготовность анализировать в полном масштабе социально-политические противоречия и логику развития советского общества в 1930–50-е гг. Но в то же время не надо забывать, что любые политические явления создаются людьми, которые накладывают на них отпечаток своей личности.
Как я уже писал, речь идёт о принципиальном разрыве с традициями американской политической системы, да и вообще демократии в том виде, как она функционировала в США на протяжении XX в. Ни ранее принятые обязательства, ни преемственность или существовавший ранее в системе консенсус не имеют для трампистской политики никакого значения. Формирование политического курса может начинаться с чистого листа; все прежние обязательства аннулируются. Подобная свобода действий обычно присуща революционным режимам, но в подходе трампистов нет ничего революционного. Они искренне придерживаются консервативных взглядов, и это первое, что их объединяет.
Алексей Сахнин описывает проект Трампа как попытку радикального перераспределения ресурсов (и власти) не только между странами (за счёт Европы и Китая в пользу США), но также между отраслями (в пользу технологических олигархов из окружения президента) и, разумеется, между классами. Я в целом согласен с размышлениями Сахнина, с той лишь разницей, что, похоже, перед нами не осмысленная и продуманная стратегия, а скорее инстинктивно-импульсное движение в определённую сторону. Но направленность процесса очевидна.
По сути дела, речь идёт о пересмотре правил игры, сложившихся в рамках буржуазной демократии и стран, составлявших ядро миросистемы, начиная со времён Великой французской революции. Надо признать, что за прошедшие десятилетия система становилась всё более сложной и запутанной, а неолиберализм породил многоуровневую социально-культурную фрагментацию, когда, например, реакционная социальная политика могла проводиться вкупе с прогрессивной культурной политикой и под её прикрытием. Трампистский ответ на кризис системы предполагает её радикальное упрощение, а заодно объединение и консолидацию всех реакционных сил
Любопытно, что восторг перед технологиями сочетается тут с недоверием и даже враждебностью по отношению к науке. Что, впрочем, закономерно. Технологии предполагают практические возможности для того, чтобы получать прибыль, вести войну или просто удовлетворять желания тех, кто их контролирует. Это свобода для Хозяина и заказчика. Напротив, наука неминуемо требует развития бесполезного знания (его практическая польза может обнаружиться через сто лет, а может и не обнаружиться никогда, если под пользой понимать только прямую выгоду).
В очередной раз приходится вспомнить знаменитую формулу Розы Люксембург — “социализм или варварство”. В условиях почти повсеместного провала левых сил кризисные процессы в капиталистической системе не только не затормозились, но, напротив, приобрели невиданный прежде масштаб. Только альтернативой, порождённой таким кризисом, стали не прогрессивные преобразования, а варварство праворадикального популизма.
