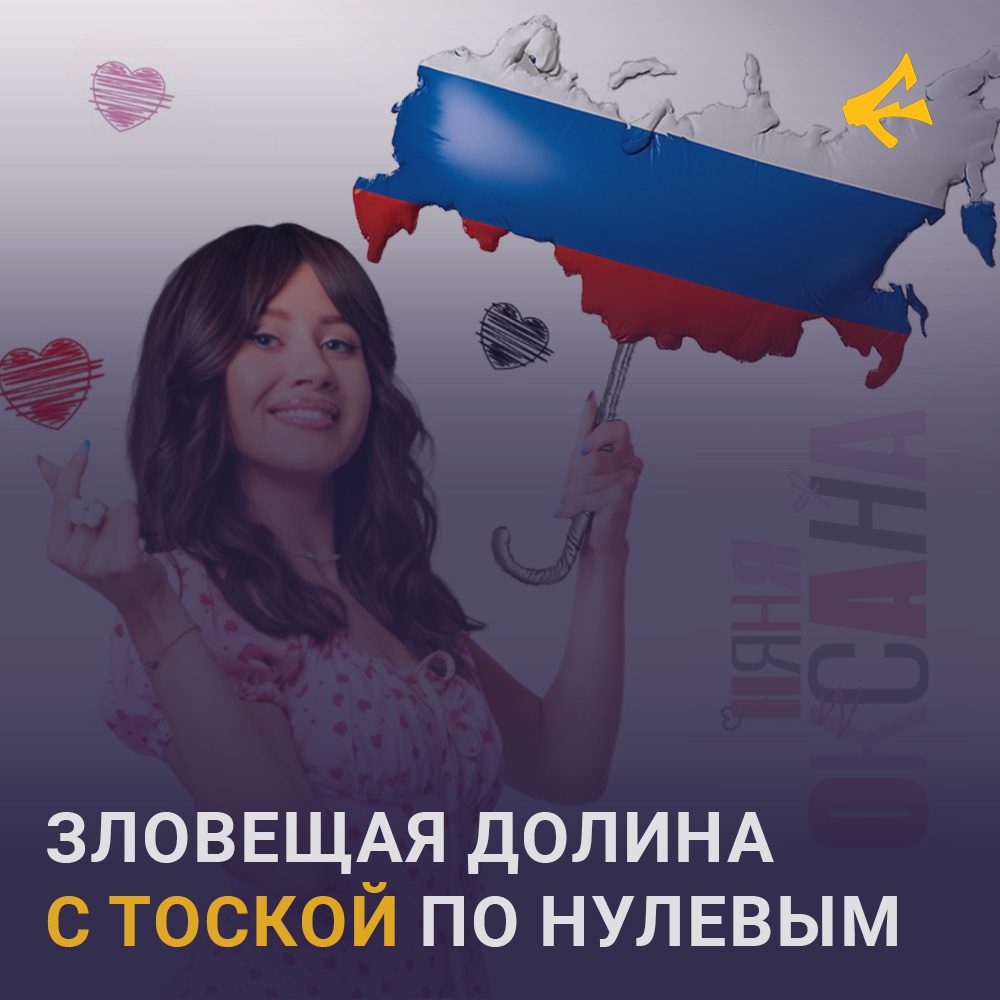
ТЕПЕРЬ ПРОСТО НЯНЯ
Когда-то давно вся страна смотрела сериал «Моя прекрасная няня» с покойной ныне Анастасией Заворотнюк в главной роли. С хохотом за кадром, с мечтой о красивой жизни, в которую можно было попасть, если быть обаятельной, трудолюбивой и простой (в хорошем смысле). И хотя «прекрасная няня» была адаптацией американского ситкома The Nanny, для нашей аудитории она поистине стала чем-то большим: национальной сказкой о России, что вот-вот догонит Запад. Сказкой с душой, потому что вера была искренней. Пусть герои говорили штампами, но в этих штампах и звучала эта вера: стоит лишь быть трудолюбивым, добрым, находчивым – и жизнь откликнется. Сейчас в любой сколько-нибудь вдумчивой критике того времени можно встретить мысль об утопичности такой ситуации для постсоветского общества, в котором только начинал выделяться «средний класс». Люди мечтали не о революциях или выживании, а о хороших ремонтах, нормальных отпусках и достойной зарплате. Это была эпоха, где западная модель счастья большинству казалась достижимой, и это ощущение находило форму не только в сериалах, а во всем культурном ландшафте тех лет. В рекламе финансовых услуг, обещавших «новые возможности»; В глянце, где на каждой странице блистала уверенность, что жить «как там» – просто вопрос времени; В песнях про любовь и успех без трагедии; Даже в городских витринах и телевизионных шоу ощущалось то утраченное уже, почти трогательное чувство. «Мы еще немного подождем, подработаем, подучимся – и всё станет как у людей». Отсылка к Летову не случайна. Если взглянуть на поздний СССР, формула «всё как у людей» звучала совсем иначе – иронично-трагически, подсвечивая шаблонное стремление к бытовому благополучию, мелочному комфорту, за которыми скрывались отчаяние и потеря смыслов. Позже, в начале и середине 2000-х, это стремление наполнилось искренней верой в достижимость капиталистического благополучия. Желание «всё как у людей» перестало быть насмешкой и стало реальной надеждой, частью того культурного фона, на котором разворачивалась жизнь поколения, мечтавшего догнать Запад. Эта вера, конечно, была по-советски наивной, но живой: она создавала климат целой эпохи, где смыслом жизни было само приближение к некоей западной нормальности. Те, кто не желал ждать, делали это приближение реальностью — планировали свою эмиграцию и уезжали. Куда-нибудь в Германию, Францию или США, одним словом, туда, где жизнь уже давно шла по правилам, которые до нас еще не добрались.
Все это теперь кажется частью большого мифа переходного времени. Старая «Прекрасная няня» была медийным воплощением этого мифа, этой утопии постсоветского наивно-либерального проекта, где личное обаяние и трудолюбие рассматривались как путь к социальной мобильности, как новый социальный лифта. Так отражался типологический образ постсоветского человека, ориентированного на индивидуальный успех и адаптацию к новым экономическим и культурным условиям (то есть индивидуальный либеральный проект – как основа личности). Причем в этом мифе было основание некоей заслуженности продвижения наверх, недостаточно просто быть красивой (иметь красивое тело). А главное, что в этом мифе личное счастье еще совпадало с общественной нормой, мораль и успех еще не были разведены по разным этажам жизни. И поэтому еще оставалось внутреннее пространство – для надежды и веры в будущее, для сомнения, для рефлексии, для возможности быть живым и уязвимым, что включает возможность изменений и признание ошибок.
И вот двадцать лет спустя мы снова смотрим историю про няню – теперь с Олесей Иванченко в главной роли, больше всего известной по шоу «Натальная карта». Новый ситком повторяет старый сюжет, но в эпоху, когда мечтать о «западной нормальности» стало не столько неприлично, сколько небезопасно, а обаяние и харизма превратились в обязательные социальные функции. Даже название отражает утрату, лишенный эпитета заголовок больше не обещает чудо, не предполагает сказочного преображения. Просто «Няня» просто фиксирует нашу реальность в моменте, где исчезло внутреннее измерение человека, а вместе с ним и мораль, и сама возможность выбора, то есть возможность быть субъектом. Либеральный проект глобализации и свободы сдулся, войны и кризисы разрушили его язык. В новом мире, где личное подчинено лояльности, пространство свободы заменено декорацией правильной жизни, утвержденной кем-то выше, – все роли распределены, роль «хорошего» уже определена заранее, а любая ролевая ошибка становится программной. Мечты и желания следуют за плавающим курсом традиционных ценностей и, чтобы встроиться в систему, каждый вынужден следить за этим курсом и синхронизироваться с постоянно меняющимися требованиями власти. Люди больше не могут опираться на устойчивый моральный или правовой ориентир, добро стало неоднозначным, как и зло. Буквально, одни и те же факты помещаются в категорию добра, когда речь идет об одном, и тут же помещаются в категорию зла, когда речь заходит о другом. Добро перемещается в зло и обратно. Теряется устойчивость морали, а следом за этой потерей – и сама мораль. Эта моральная пустота постепенно выхолащивает всякий смысл.
Кстати, новая «Няня» перестала смеяться, смех как механизм нормализации исчез. Обычно смех в ситкоме нивелирует конфликт, делает его безопасным для зрителя, превращает напряженную ситуацию в бытовую игру, где нет реальной угрозы для героя или для моральной позиции зрителя. Молчание же оставляет конфликт в «теле» сцены, и лишенный смеха он становится явлением, требующим этической рефлексии. Но сериал не предлагает этой рефлексии, и в результате возникает чувство пустоты.
«Няня Оксана» показывает нам наш собственный мир, где все человеческое стало функцией системы, а система – симуляцией жизни. Все снято с рекламной стерильностью: белый свет, чистые интерьеры, эстетика лайфстайла. Визуальный язык подчеркивает идеологию потребительской нормальности: жить красиво – значит быть правильным. На наших экранах жизнь обязана выглядеть «человечно», даже если в ней больше нет человека. Новая няня должна как-то обрести себя в ситуации, когда социальные лифты не работают, капитализм стал кастовым, успех – наследственным. Кто управляет лифтами, когда нет никаких правил, кроме воли отдельных фигур облеченных властью? Ты можешь въехать без всяких заслуг прямо в г̶а̶р̶е̶м̶ штат Газпрома, имея лишь юное тело, а можешь запросто отъехать на зону буквально (чем угрожает Самсонову его инвестор в одной из серий) вместе со своим миллионером и со всеми миллионами распрощаться (пример Блиновской, разбогатевшей на тренингах). Теперь образ «няни», поднявшейся по лестнице, выглядит анахронизмом. И все же создатели сериала снова запускают эту фабулу, как будто из инерции, чтобы доказать, что прошлое еще возможно. Но всем кругом давно понятно, что возможна только его имитация.
В контексте американского шоу и истории няни Вики провинциальное происхождение героини подчеркивало веру в социальную мобильность, отражало этнические и социальные коды персонажа, играло живыми нюансами, усиливающими миф о личном успехе: она «прорвалась». В новой версии происхождение героини становится просто фоновой меткой отсталости и даже приобретает негативную коннотацию, подчеркивая региональное социальное неравенство. Многие зрители справедливо отмечают, что в эпоху тиктока и ютуба (современная краснодарская молодежь выросла в общем информационном поле со всей остальной Россией) этот прием с «провинциалкой» выглядит нелепо.
Моральная пустота как центральный феномен
Еще более нелепым занятием кажется на полном серьезе разбирать очередной проходной сериал. Однако художественные слабости не отменяют социологической ценности, наоборот, они усиливают ее: платье «няни» плохо сшито, но в швах видно все нутро социальных изменений. В этом смысле «Няня Оксана» не учит нас, как жить, она показывает, что уже изменилось в нашей жизни. Герои ситкома действуют не из убеждений, не потому что верят во что-то, а из страха выпасть из системы. Вместо убеждений у них – функциональность, вместо добра – адаптация. Никто не плох и не хорош, все просто «работают» в пределах сценария, а выгода и эффективность заменяет этику. То есть этическое редуцировано до алгоритма выживания: понравиться, встроиться, сохраниться самим и сохранить лояльность. Напрочь исчезла мораль как структура действия и новое «добро» теперь – это функциональная аморальность, то есть поведение без морального вектора.
Сериал пытается быть добрым, светлым, семейным и праздничным, – для общества, которое устало от фоновой агрессии и ищет утешение в ностальгии. Но эта доброта оказывается просто механизмом конформизма. «Няня Оксана» пугает именно тем, что не злонамеренна: она как сама система, в которой добро перестало быть внутренним содержанием и стало формой подчинения. Буквально: в мире, где зло нельзя называть, добро превращается в способ не видеть. Вся моральная пустота сериала выражается не столько в самих поступках, сколько в невозможности реального поступка. «Быть добрым» теперь значит производить впечатление доброты. Это больше не глубинная нравственная позиция, не внутренняя готовность к ответственности, а набор операций и алгоритм адаптивных действий: как говорить, что делать, как себя подать, чтобы остаться на своем месте. Это сложно назвать истинным цинизмом. Cкорее это утрата гуманистического основания, той веры в человека как субъекта, способного к самостоятельному моральному выбору, ответственности и достоинству как внутренней ценности, а не как функции. И, честно говоря, мы давно привыкли к тому, что добро стало форматом, а не внутренним содержанием.
Когда сериал критикуют за «пошлость», дело не столько в отдельных сценах, сколько в том, что при утрате моральной структуры действия и замещении ее чисто функциональной операционностью все начинает выглядеть «грязным», пошлым, отталкивающим. Это можно рассматривать не как провал сценаристов – это вообще не провал, создатели нам показывают жизнь такой, какая она есть. Моральная пустота персонажей просто зеркало того, что происходит в обществе, социокультурный симптом эпохи. Моральные категории добра и зла теряют применение, когда человек делает выбор, не осознавая, что выбирает. Поведение героев редуцировано до воспроизведения набора социальных навыков: быть корректным, позитивным, избегать душности (т.е. излишнего ума), «понимать других» (выдавать правильную реакцию, демонстрировать социальную компетенцию). В этой новой морали нет внутреннего конфликта, потому что нет внутреннего пространства. Добро больше не внутренний порыв, а сервисная услуга. Зло – не преступление, а системная норма. В такой оптике поступок Ивана Самсонова – не личная подлость, а поведенческий стандарт времени. Он соглашается «подложить» няню под инвестора, чтобы проект не сорвался, инвестор не ушел, репутация не пострадала. Короче говоря, потому что работа такая и «так дела делаются». Это логика рынка, перенесенная в сферу чувств. Иван Самсонов лишен морали не потому, что он злой, а потому, что мораль стала избыточной. Самсонов просто функционален и эффективен: его поступки не имеют этического веса, потому что в новом мире мораль не участвует в принятии решений, а страх заменяет совесть (в дисциплинарном обществе контроль интроецируется и заменяет нравственное осмысление). В конце линии с инвестором Самсонов «спасает» Оксану в опасной сцене и тем будто бы реабилитируется через романтический жест. Но не происходит никакой перемены для персонажа, который не имеет этической перспективы. Он не мучается виной, не проходит очищения, не переживает озарения. Ведь его «добро» всегда с условием выгоды, и в данном эпизоде система просто вернула себе работоспособность, отработала ошибку и перезапустилась. Любовь никого не преображает, потому что внутреннее пространство для преображения отсутствует.
Исторически «любовь‑преображение» в искусстве и культуре выступала как форма синтеза личного и социального: любовь не просто соединяет двух людей, она трансформирует их и тем самым отражает ценности и нормы общества. Когда любовь перестает быть силой преображения, зритель ощущает пустоту, ведь нарратив обещал метаморфозу по старой привычке. Романтический сюжет обесценивает себя, потому что замыкание на обменной логике в отношениях исключает подлинное превращение «характера». В этом фундаментальная пустота эпохи: эмоции и чувства стали частью экономического обмена. Няня не прекрасная – сам мир больше не допускает прекрасного. Прекрасное требует утраты (подлинное эстетическое или нравственное переживание предполагает неполное владение объектом, эмоциональный и эстетический риск). Утрата контролируемости несовместима с системой, где все можно измерить, продать и использовать. Прекрасное становится невозможным, потому что любое его проявление сразу инкорпорируется в функциональный или коммерческий расчет, и личное переживание превращается в ресурс для обмена. В «Няне Оксане» любовь без опоры на мораль, на нравственную глубину, становится технологией.
Исчезновение детства как социальной категории
Парадокс сериала в том, что он позиционируется как семейный, якобы для просмотра с детьми, хотя некоторые сцены в нем откровенно 16+ и многие темы явно несовместимы с детским восприятием. Это несоответствие, кажется, все же не случайно: оно отражает общее состояние культуры, в которой образ семьи сохраняется лишь на уровне риторики, а само детство, как социальная и нравственная категория, просто исчезает. За внешней халатностью создателей ситкома проступает, если копнуть глубже, кризис социально воображаемого по Корнелиусу Касториадису. Общество больше не способно представить себе подлинно детский, невинный мир; оно утратило способность воображать будущее вообще.
Сейчас на уровне дискурса дети присутствуют повсюду – государство говорит о демографии, о традиционных ценностях, о будущем. Но в действительности дети, как социальный субъект, из этого будущего исключены и благополучное детство постепенно исчезает из практики: школы и детские учреждения «оптимизируются», образование деградирует, дети выходят на работу с 14 лет (родители привлекают детей к своей работе и в более юном возрасте), роддома закрываются, социальная инфраструктура городов деградирует, дома ветшают и становятся некомфортными для жизни и рождения детей, с постоянными коммунальными авариями и нарушениями подачи воды, электричества, отопления. Современная политика заботы о детях – декоративная ширма, имитация будущего. В любой культуре ребенок – это символ будущего, доверия к завтрашнему дню, продолжения человеческого. Когда исчезают реальные условия для детства и общество теряет способность представлять себе будущее, остается лишь воспроизводить фигуру ребенка как фетиш и эксплуатировать образ семьи, которой больше нет.
Сериал постоянно пытается говорить языком «комедии для всех», но внутри него уже не существует адресата «ребенок» как морально защищенного субъекта. Поэтому «Няня Оксана» с сексуализированными сценами (особенно критикуют сцены подражания порно-контенту) и бытовым насилием – зеркало распада общественного порядка. Ребенок больше не защищен, забота стала рыночной услугой, невинность – товаром. Сериал обращается к обществу, которое теряет способность различать, где граница детского и взрослого, интимного и публичного, дозволенного и травматического. Однако даже когда общество институционально утрачивает защиту этих границ, люди продолжают испытывать стыд и неловкость – на что указывают многочисленные жалобы зрителей на пошлость и чрезмерную сексуализацию в сериале. В этом поле паралакса (по Жижеку: с одной стороны уже исчезают социальные нормы, а с другой – субъективная реакция еще сохраняется) работает экономика позора. Удовольствие, стыд, неловкость и осуждение превращаются в ресурсы, которые можно потреблять и монетизировать. Личная жизнь героев превращается в контент, где приватность напрямую конвертируется в вирусность, реакцию аудитории и символический капитал. В экономике позора приватное становится товаром.
Эротическая бюрократия
Серия про даму из органов опеки – концентрированный кейс эпохи, миниатюра государства. Тем символичнее, что эта серия сначала закрывала первый сезон, когда ее перепутали с финальной. Кратко: Ивана Самсонова вызывают в школу из‑за поведения его детей, он пытается урегулировать ситуацию, но директор привлекает органы опеки. Сотрудница опеки Валентина сначала угрожает, что отнимет детей, а затем прямо предлагает «закрыть глаза» за интимную услугу. В итоге обмен телом и информацией превращается в валюту разрешения проблемы. Остановимся на этом эпизоде, чтобы рассмотреть отражение логики отношений государства и общества.
Органы опеки в советской и постсоветской культуре – воплощение государственной заботы, то есть биовласти (в фукоянском смысле): инстанция, которая должна осуществлять контроль над процессами жизни и семьи, должна защищать детей и регулировать воспроизводство социальной нормы. В новой «Няне» инстанция опеки больше не выполняет функцию власти, гарантирующей моральный порядок; она становится участником рынка – торгуется, предлагает сделку, «включается в оборот». Биовласть превращается в экономику тела. Тело чиновницы становится инструментом давления, а тело мужчины – инструментом уклонения от наказания. Дисциплинарная власть мутирует в эротическую бюрократию. Она перестает быть регулятором, но продолжает работать в режиме взаимного шантажа. Это не просто коррупция, это демонтаж самой идеи института, превратившегося в элемент сети выгод. Поэтому формально протоколы уже не ведутся, формальная фиксация власти и ответственности отсутствует. Войны, дипломатия, большие международные договоренности – все движется не публичными принципами, а частными выгодами: никаких идей, только тонкое искусство взаимного шантажа.
В финале истории с опекой компромисс достигается не через правду или исправление ситуации, а через обмен шантажами. Когда институты перестали быть гарантией норм, то каждый вынужден торговать приватностью, телом, вниманием, чтобы сохранить статус. И вот нам показывают, как оба героя действуют из этого страха потери статуса. Никто не действует из принципа и оба оказываются одинаково морально пустыми: и власть, и частное лицо. Эта симметричная аморальность – своего рода зеркальный контракт, где власть и мораль, добро и зло потеряли различие, а любой институт (даже тот, что должен защищать) больше не регулирует общество, а конвертирует свою власть на рынке телесных и символических обменов. Можно даже сказать, что здесь на бытовом уровне встречаются Фуко и Бурдье: символический капитал телесности стал валютой новой морали. Если в «Моей прекрасной няне» еще оставалась вера в человеческое обаяние как социальную силу, то теперь обаяние – это ресурс власти.
Добавим немного социальной оптики. Образ дамы из опеки – «толстой и некрасивой», – поставлен в оппозицию к идеалу телесного капитала. Такое представление делает ее «лишней» и одновременно опасной: ей проще приписать моральный дефект, чем видеть в ней чиновницу с рычагами власти. Толстая, некрасивая, с позиционно более низким телесным капиталом – она превращена в гротескную фигуру желания, которое «не должно было» существовать. Ее сексуальность не признана как право на тело, а подана как комизм, уродство, вторжение в сферу «мужского» и «молодого». Это типичный для позднепостсоветской массовой культуры механизм стыда: эстетика телесного различия используется для легитимации насилия или эксплуатации, формирования «нормы комедии».
Нормализация лжи и предательства
Сериал изобилует сценами лжи и предательства, после которых зритель видит мгновенное восстановление отношений. Старый ситком был светлее и доброжелательнее, он держался на мягкой комедии взаимных недопониманий, добром фарсе и узнаваемых штампах. Конфликты в основном имели игровой характер, они не базировались на системной аморальности, лжи, предательстве и сексуализации. Интонационно старая «няня» соответствовала нормальной моральной логике, в которой проступок влечет осуждение и перераспределение ответственности. Мораль = репертуар устойчивых обязательств, которые делают выбор осмысленным; этика = рефлексия над этими нормами. В новом сериале все обязательства разомкнуты, их заменяют краткосрочные выгоды. Герои не автономные моральные агенты, их воля отсечена рыночной рациональностью, они просто носители практик сервиса, брендинга, стратегий внимания – эдакие человеческие интерфейсы в экономике знаков. В каждой серии быстрое «прощение» выполняет роль реставрации статус-кво. Оно освобождает систему от напряжения, не меняя структуры. Так нормализация лжи и предательства работает как часть механизма воспроизводства системы: обман не получает санкции, и потому система (основанная на лжи) остается нетронутой. Как следствие, моральные стимулы для изменения исчезают, ведь если ложь не нарушает порядок, то и истина теряет ценность. Эта логика давно царит за пределами экрана, мы живем в обществе, где согласие важнее смысла, а видимость честности заменяет саму честность. Такая симуляция и есть наша новая мораль. В этом, кстати, метафизическая точность сериала. Он не придумывает новую мораль, он показывает ее отсутствие как норму. Зритель чувствует стыд не только потому, что видит порок, но и потому, что видит себя со стороны: привычку прощать ложь, проглатывать вину, рационализировать унижение.
Механизм выживания и обсессивно-компульсивная ностальгия
Если в нулевых общественная вера была наивной, но живой (частью внутренней жизни), то теперь общество вообще отказывается чувствовать. Чтобы жить в авторитарной реальности, нужно выключить рефлексию, выключить боль, выключить себя. Наступает самоцензура чувств, а следом и апатия. Психологи и философы давно описывают это состояние как схлопывание внутреннего пространства. Петер Слотердайк в книге «Критика циничного разума» описывает современного человека как «просвещенного ложью». Человека, что понимает фальшь идеологий и знает, что все ложно, но продолжает участвовать в ложном, потому что иначе не сможет существовать, иначе ему не выжить. Б.-Ч. Хан в «Психополитике» пишет о смене дисциплинарного общества (по Фуко) на общество самоконтроля и самодисциплины, где человек сам себя эксплуатирует, стремясь к эффективности, чтобы быть «позитивным» и «успешным». Мы больше не подавляем эмоции из страха перед властью, мы их автоматически не производим. Мы выключаем их как избыточный расход энергии. «Не трать нервы, не думай о плохом, не разрушай себя» – еще одна сторона новой морали и рациональности страха. Рефлексия же предполагает паузу, размышление, сомнение, взгляд внутрь. Современный человек этой паузы лишен, он живет в режиме бесконечного реагирования. Его сознание постоянно стимулируется, управляется, измеряется. В результате исчезает само то, что делает человека человеком – этика невозможна без внутреннего пространства. Когда пространство закрывается, исчезает не только совесть, но и надежда на изменение.
Главная черта современной российской массовой культуры – это навязчивая попытка вернуть утраченные смыслы через форму. «Няня Оксана» еще один культурный продукт, который судорожно хочет вернуться в середину нулевых, туда, где еще можно было мечтать о будущем. Знакомая структура ситкома, сюжетные ходы, узнаваемые типажи, телесные стандарты, пластика, мимика, ритм реплик – все работает как отсылка к прошлой эпохе. Последней эпохи веры в то, что история движется куда-то в лучшее и светлое. Сейчас все это с треском рухнуло – и либеральная мечта, и сама возможность мечтать. Осталась только форма. И эта форма бесконечно воспроизводится механически, без осмысления – обсессивно-компульсивное движение по превращению отсутствия в эстетическую норму. Ностальгия у нас давно стала заменой идеологии. Она маскирует культурную и моральную пустоту, создавая иллюзию преемственности. Ностальгия давно перестала быть чувством и стала формой власти. В ней уже нет памяти – только управление памятью. Она одновременно утешает и закрепощает, потому что упорно предлагает комфорт воспоминания вместо опыта переосмысления. И в этом заключается диалектика ностальгии: она обещает возвращение живого и, при невозможности его возвращения, питает существующее мертвое.
Кто заказывает для масс-медиа тоску по нулевым? Больше всех тоскуют те, кто может себе позволить реконструкцию времен своего расцвета. Для золотой элиты середина нулевых – не только время надежд, но и время начала их власти, время уверенности, когда быть богатым означало быть правым и «успеть в мировую историю». Теперь эта элита живет в состоянии культурной амнезии. Она продолжает праздновать роскошную жизнь, сама себе продюсер и потребитель зрелищ, она не создает смыслы, она их воспроизводит, как старую любимую пластинку. Она тоскует не по вере, а по уверенности.
Реальность неподдельно жестока: общество в целом пережало внутреннюю рефлексию, чтобы выжить; богатая элита тоскует не по справедливости, а по эстетике возможностей. Она хочет вернуть ощущение победы, но не общество, в котором эта победа имела смысл.
Антиординаты Зазеркалья
«Няня Оксана» – это зеркало, в котором отражается вся Россия 2020-х. В героях мы видим самих себя: функциональных, выкручивающихся, выживающих, но не способных на реальное изменение. Весь сезон нам показывают выбор без выбора, «добро» без добра, любовь без преображения, человека без внутренней траектории. «Няня Оксана» даже не пытается казаться честной – она честно пуста. Возможно, в текущем моменте, это сильнее любого морализма.
Главное отличие новой няни от старой – не в актрисе, не в шутках и не в продакшне, а в отсутствии возможности изменения. Прекрасная няня была возможна в обществе, где верили, что жизнь можно изменить. Теперь у нас просто няня – потому что изменять больше нечего. Жизнь предстает как инерционное движения к смерти (без веры и без памяти), у нее больше нет иллюзий, но нет и протеста.
Старый сериал жил на вере в лучшее: простая девушка могла попасть в дом богача и остаться при этом человеком. Добро могло победить. В новом мире уже все распределено. Лучше не будет, потому что не существует условий, в которых изменение к лучшему возможно. В таком мире ожидать, что любовь преобразит человека, что добро победит – значит продолжать верить в моральные структуры/формы, которые больше не обладают силой.
Эпоха перестала быть прекрасной не потому, что она стала злой, а потому что сначала она закрылась изнутри. Общество утратило способность к самоизменению и к пониманию самого себя. Теперь же, когда гуманистический язык перестал работать, люди продолжают говорить языком функций, больше не способным в моральную интонацию. Мы постоянно слышим старые слова и лозунги, но за ними – ничто, вакуум. Накопилась усталость от этой бесконечной симуляции.
Раньше субъект опирался на веру в самоизменение и это движение расширялось наружу, формируя общество и проектируя будущее. Теперь же он ограничивается самооптимизацией. Это режим экономии, все ресурсы стягиваются к центру, все лишнее отрезается, вся жизнь становится функцией рационального расчета и механизмом выживания. Изменение больше не распространяется ни на общество, ни на будущее, оно замкнуто на себя, превращаясь в технократическую рутину.
В конце остается вопрос, который сериал не задает, но который нам придется задать самим: возможно ли восстановление внутреннего пространства, если институты перестали быть носителями смысла, капитализация чувств стала нормой, а мораль превратилась в транзакцию? Или ответ потребует новых форм возвращения движения к будущему, но не лозунгов и пафоса, а практики и действия.
Автор: Джейн-до
