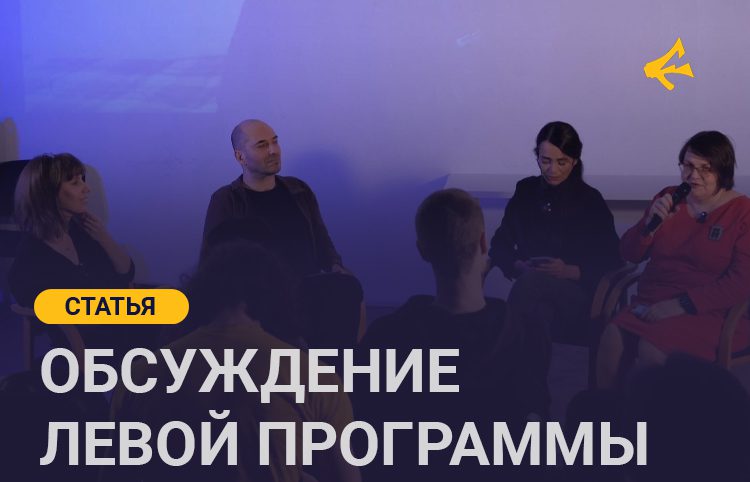
Сквозняк перемен
13 февраля, в годовщину второго ареста Бориса Кагарлицкого*, Рабкор проводил обсуждение программы-минимум «Новый курс», подготовленный коллективом экономистов проекта «New Deal» в сотрудничестве с социальными исследователями других направлений. В очном обсуждении принимали участие поэт и писатель Кирилл Медведев и политик Юлия Галямина*, вели обсуждение политический философ Лина Четаева и журналист Евгения Родионова. Дистанционно к дискуссии подключились авторы программы экономист Хазби Будунов, политический активист, автор канала «Вестник бури» Андрей Рудой* и я, поскольку вместе с командой Рабкора работала над обзором программы. Итоговый документ выложен на сайте Рабкора, любой желающий может ознакомиться. К работе над документом активно подключился Борис Кагарлицкий, его соображения по каждому блоку программы «New Deal» приведены в тексте.
Живой интерес аудитории вызвали положения Новой денежной теории (англ: Modern Money Theory, сокращённо MMT), согласно которой общество может профинансировать любой проект, на который у него есть кадровые, материальные и технологические ресурсы. Если ресурсов нет, общество может профинансировать их создание. Хазби Будунов назвал мифами представления о том, что отсутствие денег является препятствием для реализации важных для общества проектов, а налоги и есть необходимый для государства источник денег. Неудивительно, что авторов программы забросали вопросами.
Евгения Родионова уточнила, почему программа не включает типично левые требования вроде национализации крупных предприятий и прогрессивного налогообложения. Будунов ответил, что в концепции ММТ не имеет значения, в чьей собственности находится компания, ключевое значение имеет организация экономики и экономическая политика государства. Это заявления вызвали возражения аудитории, но в ней не было специалистов по ММТ, и экономическая дискуссия довольно быстро трансформировалась в политическую.
Юлия Галямина поинтересовалась конечной целью перемен. Андрей Рудой ответил, что цель – свободное и благополучное общество, и отметил, что мы обсуждаем программу-минимум, которая учитывает все наличные политические и экономические сложности, однако содержит довольно внушительный блок, посвящённый социальной защите граждан, их социальным правам и политическим свободам. Кирилл Медведев поддержал авторов программы и поделился своей радостью по поводу того, что левые обсуждают не прошлое, и даже не настоящее, а будущее, и обсуждают его на основе науки и реальной экономической практики.
В целом дискуссия была конструктивной и доброжелательной, но яблоком раздора стал вопрос о субъекте перемен. Это важнейший вопрос, ведь, именно в политической сфере будет решаться судьба перемен, формироваться будущий курс России, без определённой политической воли самая прекрасная, логичная и прогрессивная программа обречена на провал. И оказалось, что при общей близости позиций, взгляды на этот предмет существенно отличаются. Кто-то высказался за прямую демократию, Андрей Рудой заметил, что при нынешнем состоянии российского общества наиболее реалистичным вариантом ему видится парламентская демократия, поддержанная демократическими преобразования, указание на которые в программе есть. В том числе там предусмотрено законодательное ограничение влияния частного капитала на избирательный процесс.
Юлия Галямина стояла за республику, но против идеи обязательного политического участия, которое предусмотрена в «Новом курсе» и за которое выступала я. Галямина сочла, что такое принуждение выродится в всеобщую обязательную политизацию и, в конечном итоге, в имитацию политического участия, которую она помнит со времён СССР. Хазби Будунов выразил сомнение в том, что массам можно доверить принятие решений, связанных с обязательным наличием специального сложного знания, и заявил, что большинство важных решений должны принимать эксперты. Понимания этого позиция у аудитории не встретила, но и идея обязательного политического участия принималась без энтузиазма, диапазон реакций – от острожного пессимизма до открытого скепсиса.
Идея обязательного политического участия, добавлю, компетентного участия, отнюдь, не нова. Это идеал античного полиса, любимый Аристотелем: половину времени гражданин тратит на общественно полезные дела, половину – на политику. Сегодня это идея очень часто вызывает отторжение. Кто вспоминает комсомольские и партийные собрания с их регламентом и принудительным энтузиазмом, кто возмущается самой идеей «обязаловки», вторжению политики в частную жизнь, нарушению её неприкосновенности. Как будто наша жизнь действительно неприкосновенна! Скажите об этом тем, кто сидит за решёткой за слова и посты в социальных сетях, родственникам тех, кто погиб в войнах за чуждые им интересы или расстрелян без вины из-за «несовершенств правосудия». Скажите это тем, кто потерял все свои сбережения в финансовых катастрофах, кто пострадал при пожарах, наводнениях, обрушениях зданий или шахт, причинами которых была чья-то жадность, чья-то халатность и куча решений, принимаемых не публично и непрозрачно.
Что касается неприятия принуждения, то это правильное возражение, это самый тонкий момент идеи обязательного компетентного политического участия. Я не зря подчёркиваю эпитет «компетентный». Политическое участие граждан не должно сводиться к голосованию на референдумах или в выставлении оценок чиновникам на официальных сайтах. Это должно быть осознанное вовлечение в решение общественно значимых проблем, в первую очередь, связанных с профессиональной деятельностью граждан, но не только. Политизацию общества нужно начинать именно с профессиональных сообществ, добиваясь их прав и свобод на решающий голос в формировании стратегии и тактики развития их отрасли. Постепенно профессиональные сообщества будут вовлекаться в решение сопряжённых с их сферой задач, а потом – и других социальных проблем. Политическое участие должно быть обязательным, но ни в коем случае не принудительным, любое принуждение приведёт к вырождению реального политического действия, к его имитации. Но политическое участие должно стать нормой, общественно одобряемой и принимаемой большинством, привилегией и правом гражданина. Добиваться этого – важнейшая цель демократических левых.
Звучит нереалистично? Ну, не стоит путать утопию с трудновыполнимым планом. План спасения в безвыходной ситуации всегда выглядит нереалистичным, но если принять его как трудновыполнимый, но всё же план, то и ситуация перестаёт быть безвыходный. Это вопрос угла зрения, а ещё – воли, твёрдости духа и оптимизма.
Общественно-политическая ситуация, в которой пребывает сегодня весь мир, лёгкой не выглядит, и оптимизма не внушает. В пьесе Бродского «Мрамор» есть такие слова: “Только возможность катастрофы отличает реальность от фикции”. Вот это прямо про нас: только вполне себе реальная вероятность большой и губительной для всех войны и отличает нашу реальность от самых мрачных построений фантастов и футурологов.
Вам не нравится «принудиловка» политического участия? А как вам такое: два человека полтора часа поговорили по телефону, и весь мир обсуждает, о чём же они договорились. Информация об итогах переговоров поступает от СМИ, подконтрольным этим людям. Восемь миллиардов двести шестьдесят три миллиона двести восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят девять человек (на 20:05 московского времени 14.02.2025), миллионы пострадавших в вооружённых конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке, сотни тысяч втянутых в боевых действия, десятки (если не сотни) тысяч погибших, – их судьба, по крайней мере, в первом приближении, решается в телефонном разговоре двух людей. Мне такой метод решения глобальных проблем кажется и несправедливым, и неэффективным, и просто опасным.
ММТ учит нас, что государство может профинансировать любой необходимый для общества проект, если для него есть материальные и иные ресурсы, а также если государство имеет собственную легитимную валюту, которую свободно может создавать. А кто будет выявлять потребности, определять приоритеты и распоряжаться ресурсами? Кто будет контролировать результаты? Государство? А кто, собственно, контролирует государство? Так ли уж оно ориентированно на общественное благо? Думаю, уже всем понятно, что нет. Только постоянной общественной активностью, борьбой за свои права можно добиться от государства политики в интересах общества. Тем самым обязательным компетентным политическим участием добиваться.
Так складывается и в личной жизни, и в политике, что, если ты не хочешь самостоятельно действовать и делать выбор перед вызовом обстоятельств, придётся иметь дело с последствиями чужих решений. И никто не гарантирует, что эти решения будут в твою пользу.
«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идёт на бой!» – это не только красивые стихи, это просто инструкция для свободного общества, которое не может быть спокойным, сытым и тихим, но обязано быть деятельным, беспокойным, полным дискуссий и грандиозных проектов. Не комфортно? Так за всё в жизни нужно платить: за свободу борьбой и беспокойством, за комфорт – забором, который кто-то выстроит вокруг вашего уютного вольерчика. Правда, и за вольер рано или поздно придётся сражаться, если строителю заборчика он покажется излишне просторным.
Освобождаясь от обязанности определять свою жизнь, мы лишаемся права быть свободными. А ветер перемен задует обязательно, но не будет, как в детской песне «тёплым, ласковым». И к этому нужно быть готовыми.
* признан(а) иноагентом
